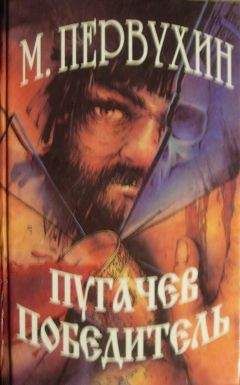— Матросы видели!
— А что же они не вытащили?
— Опять же, сколько времени прошло, а она не показывается! Значит, померла!
— Та-ак! А ты, твое царское величество, почитай, годов семь или восемь скрывался! И то вынырнул!
Удар попал не в бровь, а в глаз, и «анпиратор» растерялся.
— Я-то одно дело, а она вовсе другое! Я от моих ворогов лютых скрывался, которые меня убить замыслили!
— Та-ак! А она, говорят, твоего графа Панина безносого испужалась, — с притворным сожалением заметил ехидный старикашка. — Очень уж, мол, на наказанного за душегубство варнака одного похож! Ну, известно, баба. Пужливая! Вот и спряталась, где ни на есть. А по времени объявится! Да ты на меня, бедного, не серчай, твое величество, а то как бы из меня и дух вон тут же не вышел. А что хорошего будет? Опять скажут, что, мол, кто-то там в Кремле человека невинного зарезал!
Пугачев скрипел зубами и давал себе в сотый раз клятву при первом удобном случае расправиться с Елисеевым да и с прочими «епутатами». Да и со всей этой треклятой, лукавой и строптивой Москвой. А Москва жила только слухами, вся была во власти своих же собственных выдумок.
Смерть «от чахотки в грудях» Семена Мышкина-Мышецкого дала новую пищу болтовне. Стали говорить, что «анпиратор» намеревался подсунуть молодого князя народу, выдав его за наследника цесаревича Павла Петровича, да бог не допустил, послал «цесаревичу» преждевременную смерть. Когда Мышкина хоронили, было огромное стечение народа, и толпа держалась вызывающе, так что не обошлось и без столкновений с «городовыми казаками».
«Анпиратор» пожелал почтить похороны своим присутствием и шел за гробом пешком. Могила для Семена Мышкина была приготовлена в Девичьем монастыре. В то время, как гроб подносили на руках к могиле, какая-то молодая, бледная и худая черница протолкалась к гробу. Очутившись в двух шагах от Пугачева, она вдруг быстрым движением выхватила из рукава пистолет... Грянул выстрел. Следом другой. Первая пуля попала в цель: ударила в грудь чуть повыше сердца. Пугачев вскрикнул и свалился. Вторая пуля пролетела над его головой, когда он падал, и угодила в руку и в бок Хлопуше. Поднялось невообразимое смятение. Упавший на снег «анпиратор» чуть не свалился в могилу. Подоспевшие Творогов и Юшка Голобородько кинулись поднимать «анпиратора» и в суете оба упали на него. Кто-то кричал: «Держи! Бей!» Люди бестолково метались среди могил. Черницу схватили, обшарили, сорвав с нее почти всю одежду. Прокопий Голобородько бил ее кулаком по белому, как мёл, лицу. Голова ее моталась из стороны в сторону. Из рассеченных губ и разбитых зубов шла кровь.
— Брось! — напустился на Прокопия канцлер. — Забьешь насмерть, а ее еще допросить надо!
— Убью! Убью! — рычал Голобородько, порываясь снова к чернице. Но его оттащили. Черницу крепко держали дюжие руки «енаралов» и «адмиралов».
Поднятый услужливыми придворными из снега «анпиратор» дрожащими руками ощупывал себя и бормотал:
— Нюжли жив? Вот так штука! Чуть было в могилу Сенькину не попал! Вот так штука!
— Ты ранен, государь? — приставал к нему бледный Юшка. — Дозволь посмотреть!
Пугачев сорвал с себя казакин. Что-то упало. Это была сплющившаяся в лепешку пуля. Еще раз жизнь самозванца была спасена его крепкой стальной кольчугой. Раны не было, но был сильный и болезненный ушиб.
Оправившись от испуга, Пугачев пожелал посмотреть на покушавшуюся на его жизнь черницу. Ее приволокли к нему. Стоять она уже не могла. Из обезображенного рта вместе с кровью шла пена: она отравилась. Смерть избавила ее от мучений. Назначенное канцлером Мышкиным следствие выяснило, что черничку звали Агафьей и что она всего за неделю до происшествия пришла с торговым обозом из Казани. Многое указывало на ее принадлежность к дворянскому сословию: белое тело, нежные маленькие руки, хрупкие плечи. Других следов найти не удалось.
Покушение чернички сильно подействовало на «анпиратора». Он был потрясен и как-то осел. Вернувшись в кремлевский дворец, он все время бормотал:
— Это что же такое будет? Ежели даже девка там какая ни есть может на меня руку поднять и все такое… Последние времена, что ли, приходят?
Вызванный в Кремль доктор Шафонский после тщательного обследования нахмурился и сказал:
— Снаружи как будто ничего. Только синяк…
— Пустое дело! — приободрился Пугачев. — В первый раз, что ли, синяки получать? Не на рыле! Вот только саднит дюже! Желвак выскочил…
— Место скверное! — веско вымолвил врач. — Тут артерия, именуемая аортой, проходит... Как бы она не оказалась от толчка поврежденной.
— Жила такая, что ли? — испуганно спросил Пугачев. — И важная жила-то?
— Очень важная! С ней шутить не следует...
— Знала, стерва, куда трафить! Ну, и черничка! А сама яду приняла. Чорту баран! И не побоялась! А я ей что исделал? Чем обидел, говорю? Разе забил кого из сродственников, так она со злости...
Шафонский предписал «анпиратору» полный покой на несколько дней и воздержание от вина. Но едва он ушел, Пугачев потребовал водки и закурил на несколько дней.
Хлопуша тоже отделался счастливо: пуля сделала сквозную рану на левой руке, не зацепив кости, потом скользнула вдоль ребер и засела в мускулах груди. Ее пришлось вырезать. Обе раны были болезненными, но отнюдь не угрожающими жизни «генералиссимуса». Однако ему пришлось проваляться несколько дней, так как он ослабел от потери крови и от привязавшейся лихорадки. Впрочем, сам «генералиссимус» отзывался о ранах с пренебрежением:
— Ничего! Присохнет, как на собаке! У меня тело не барское, а мужицкое!
Несколько дней спустя после происшествия в Девичьем монастыре канцлер «анпиратора» князь Мышкин-Мышецкий навестил еще возившегося со своей раной на руке Хлопушу и, едва поздоровавшись с ним, сухо сказал:
— Ну, сиятельный граф и фельдмаршал, позвольте вас поздравить!
— С чем это? — насторожился Хлопуша, почуяв, что князь пришел не с добром. — Кабыть сегодни я не именинник!
— Вашему сиятельству предстоит в самом близком времени вплести новые лавры в венок славы российской армии! — напыщенно-насмешливо продолжал Мышкин.
— Не пойму что-то, — смутился Хлопуша. — А ты, ваше сиятельство, говори по-простецкому!
— Круль польский Станислав прислал ультиматум.
— Не пойму чтой-то…
— Ну, грозит войной!
— Та-ак! Давно грозит! Не очень мы его побоимся, ляшка этого! Да чего ему нужно еще?
— Требует уплаты денежной контрибуции в размере пяти миллионов рублей золотом, из коих половину немедленно, а остальное через полгода.
— Сдурел лях, что ли? За что мы еще ему платить должны? В наши же земли влез нахрапом да еще и плати ему! Дудки!
— Указанная сумма требуется в возмещение убытков, понесенных крулевством вследствие участия державы Российской в первом разделе Польши!
— А мы ее, Польшу, разе делили? Катька виновата да король пруцкой, да австрийский цесарь. Ты ему, Станиславу, так и отпиши: мы, мол, ни при чем! Катька потопла, с нее взятки гладки. Пущай с других требовает. Да у нас и денег нету!
Улыбнувшись кончиками губ, Мышкин продолжил сухо:
— В своей ноте круль Станислав пишет так: «За действия прежнего правительства всю ответственность возлагаем на нынешнее царское правительство, преемственно унаследовавшее от прежнего не только права государственные, но и обязанности».
— Вот-те на! — возмутился Хлопуша. — Катька напрокудила, а мы — отдувайся? С какой стати?!
— Спорить тут бесполезно. Требование предъявлено, и поляки от него не откажутся. Но этим дело не ограничится: до внесения всей суммы с процентами мы должны дать залог...
— Не Маринку ли брюхатую а ли Таньку в заложницы паны хотят? — ухмыльнулся Хлопуша
— Залог земельный, мы должны немедленно и без сопротивления отдать им всю Смоленскую провинцию, а кроме того, немедленно же вывести свои гарнизоны изо всех украинских городов и навсегда отказаться от каких-либо прав на Белоруссию и Малороссию.
— А дальше? А ежели мы им, панам польским, по-казацки дулю покажем?
— А в случае отказа круль Станислав обещает прибегнуть к силе оружия, иначе говоря, грозит войной и обещает занять не только Смоленск, но и Москву. Да война собственно говоря уже и началась. Поляки сидели в Полоцке да Витебске, а за эти дни их армия вовсе приблизилась к Смоленску. Ежели мы не желаем увидеть уланов и в Москве, нельзя терять времени, надо гнать войска на защиту Смоленска!
— Значит, война? Н-ну, а «сам» что говорит?
— А «сам» сейчас не столько говорит, сколько мычит!
— Пьян?
— Как дым! С того дня, как Чугунов привез ему для утешения Таньку из Раздольного, ни разу он, кажется, в трезвом виде не был! Только от него и добился, что «наплевать»!
Хлопуша тревожно завозился, свирепо по-мужицки выругался и поднялся с угрожающим видом.
— Н-ну, я его вытрезвлю! Пойдем к нему, сиятельство! Разбаловался от дюже! Ему на все наплевать! Ишь, кака така цаца! Творогов... Трубецкой, то есть издеся? Идем, собьем сейчас государственный верховный совет. Пугнем самого-то! Я знаю, с какого боку к нему подойти! То есть, так-то вспарю!