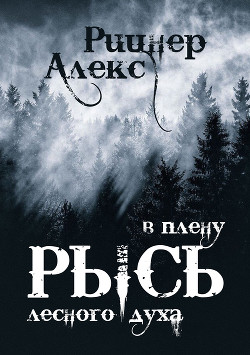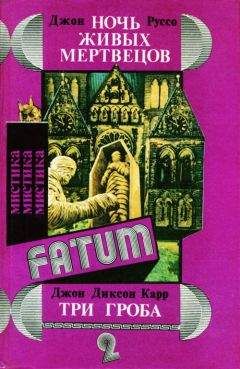Стах завершает отрывок длинной паузой и тянет Тиму книгу. Тот сидит, развернувшись, с полузакрытыми глазами, и перебирает пальцами рукав рубашки.
— Будешь слушать?
Тим распахивает глаза и тушуется. Как будто извиняется:
— Ты хорошо читаешь.
— Как-то я победил на конкурсе чтецов. Только не знаю зачем.
— Зачем победил?..
Стах не понимает, как у него вышло добавить последнее предложение — и теряется. Прячется от ответов и мыслей за чтением.
Тим еще всматривается несколько минут в него то ли бездумно, то ли наоборот озадаченно, и лишь затем возвращается к слушанию.
— «Вдруг — голос»… — Стах напрягается. — О нет, это любовь нагрянула нежданно…
— Разве? Там, кажется, ничего такого…
Стах верит Тиму на слово. Но отрывок о грузинке делает момент неловким — и с каждым словом все больше. Стах краснеет мучительно, как будто он читает не поэму о тоске по родине, а лютую порнографию. Он отбивается, как может:
— Почему везде должна объявиться женщина?.. Что, нельзя без вот этого всего?..
— Ну… здесь она как символ свободы. Вот, дальше, гляди, — Тим наклоняется к книге — и от него веет болезненно знакомым севером, напоминая о недавней бессоннице. — «Я вижу будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь… и затворилася опять!..» Даже не просто как символ свободы, а символ — утраченной свободы.
— Отлично. Символ. Но почему женщина? — конечно, Стах об отношениях в целом спрашивал, но…
— А ты кого хочешь? — не понимает Тим.
Стах напрягается — и в нем зреет бунт, только не знает — выхода.
Тим, свалившись в паузу, смотрит перед собой и приходит к мысли, что:
— Мцыри жил среди монахов и собирался принять обет. Наверное, он никогда не знал женщины…
Стах нервно усмехается и морщит нос. Тим еще об этом так сказал… Не грубо, не пошло, не сухо вроде: «Он не был». Иначе. Становится не по себе — от Тима, что он слишком взрослый для Стаха в эту секунду.
— Интересно, — а тот продолжает, — с чем Лермонтов ассоциировал свободу. Он тосковал по прошлому, даже, может, по чему-то первобытному в человеке, по страсти. Это, наверное, бывает, когда люди идеализируют прошлое. Миф о «Золотом веке». Лермонтов в «Думе» пишет с сожалением: «И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат»… Мне в это не очень верится. Что раньше было лучше. Или что лучше будет…
— Ты пессимист, — Стах усмехается.
— Ты это сейчас понял? — Тим тянет уголок губ.
Они переглядываются. Стах смущается окончательно и возвращается к поэме — уже без претензий к женщинам. Тим его добивает:
— У тебя даже уши красные.
— Я знаю, — Стах делает вид, что ему такое — раз плюнуть.
VII
Больше ни слова из поэмы Стах не понимает. Он почти уверен, что Тим теперь считает его маленьким мальчиком, который не способен стерпеть описание красивой девушки. Он дочитывает уже без старания, лишь бы побыстрее. Тим тоже особенно не вникает. Это Стах понимает потому, что вырывает его из мыслей, только когда оповещает, что:
— Все. Я закончил.
Тим возвращается в мир, ловит его в фокус и интересуется:
— Ну как?
— Еще не знаю…
Они вместе собираются и идут домой. Тим поглядывает на Стаха изредка. Тот заранее придумал для него, что переваривает «Мцыри». Но Тим не нарушает тишины. Они даже прощаются жестом.
VIII
Стах думает перечитывать дома. Но дома его тоже накрывает. Волной стыда. Он не уверен, что теперь сможет нормально читать Лермонтова. Он не уверен, что Лермонтов хоть как-то к этому причастен. Он вспоминает, что должен выучить отрывок о грузинке…
========== Глава 20. Страсти обеденные/обыденные ==========
I
Через несколько дней позор немного отступает. В обед Стах, оставленный Сахаровой на разговор об очередном мероприятии, выходит позже. Натыкается на Тима. Тот, как обычно, теряется. Размыкает губы. Может, для приветствий. Стах опережает:
— Ты куда?
— Н-на обед…
— Ты вроде не ходишь в столовую?
Тим сцепляет руки. Стах выдает раньше, чем соображает, — это же не в гости собраться:
— А можно с тобой?
Тим пожимает плечами — и разрешает с собой.
II
В северном крыле на третьем этаже — небольшая площадка, откуда три двери: две в кабинеты и черный вход в актовый зал. Оба кабинета — для кружков. Один — драмтеатр, другой — музыкальный. В перемены, когда все в столовой, здесь никого не бывает.
Тим не включает свет — и Стах не суется со своим уставом в чужой храм. Значит, так надо. Они рассаживаются на полу в полумраке.
Тим делится бутербродами. Они в салфетках. Стаху нравится — это же идеально: он как раз руки не вымыл. Он не знает, как сказать об этом Тиму. Тот тоже тушуется, с таким видом, словно салфетки — это признак безумия. Так они остаются каждый со своим непризнанным неврозом.
Стах откусывает и слушает отдаленный шум гимназии. Здесь как в другом измерении. Словно под водой. Странное чувство своего места…
— А ты давно здесь обедаешь?
— С седьмого класса, кажется…
— Почему?..
Тим пожимает плечами.
Стах за ним наблюдает. И потому, что наблюдает, замечает, как Тим ест. Он откусывает небольшими кусочками, настолько небольшими, что почти не откусывает. Потом смотрит на то, что осталось, словно пытается убедиться, что бутерброд не перестал быть бутербродом.
— Что за дела у тебя с едой?..
Тим молчит.
А еще он перестает есть. Велика трагедия — вопрос задали…
Стах понимает, что задел, не понимает, чем именно. Подумав, как исправиться, говорит:
— Я считаю, когда жую.
— Что?..
— Мелким я все время куда-то спешил, заглатывал еду и давился. Мать требовала, чтобы я жевал каждый кусок — по тридцать раз. Я считаю. Всегда.
— Тридцать раз? — Тим тянет уголок губ.
— Иногда я филоню — и считаю до двадцати. Если она не видит.
Тим пытается удержать улыбку. И то ли стесняется своей реакции, то ли еще чего: он закрывается от Стаха рукой. На несколько секунд. Затем серьезнеет. Смотрит внимательно и, может быть, даже ласково. Принимает решение. Просит:
— Обещай, что не будешь смеяться.
— Я не уверен, что сдержу слово. Но я постараюсь.
— Тогда — нет.
— Ладно, я обещаю.
— Я передумал.
— Котофей, так нечестно.
Стах упустил свой шанс. Где бы взять книжку с подробной инструкцией, как перестать надо всем хохотать. Или на крайний случай: как разговаривать с Тимофеем Лаксиным. Стах решает брать его все тем же, чем брал до этого, — терпением:
— Можно обедать с тобой вместе?
Тим смотрит на него задумчиво-изумленно.
Доходит почти сразу: Стах планомерно его лишает личного пространства. Думает сдавать назад. А Тим отвечает:
— Ладно… Если обещаешь не пялиться.
— Я обещаю, — Стах быстро учится.
III
Когда он не знает, как о чем-то сообщить матери, он ничего не говорит ей. Разбирается сам. И в этот раз тоже. Складывает обед втихомолку.
Нет достаточно веской причины, чтобы мать разрешила — всухомятку, в темноте, на полу. Аристаша, антисанитария и старшеклассник с пищевым расстройством. Отличная компания. Она бы оценила.