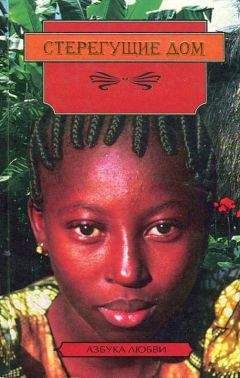Шерли Энн Грау
Стерегущие дом
«В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы…»
Екклезиаст. 12: 3—5
Вечера в ноябре спокойные, тихие, сухие. Оголенные заморозком деревья и жухлые травы искрятся и поблескивают в скудном свете. В опустелых предзимних полях, белые и застывшие, мерцают жилы гранита. «Кости земли», зовут их старые люди. В самой глубокой складке почвы — чуть в стороне от того места, где недавно, плотное и красное, закатилось солнце, — слабо отсвечивает серым речка Провиденс. В такое время года, выпитая летними засухами, это совсем маленькая речушка. Она отражает небо, тускло, как старое зеркало.
Вечера в ноябре так покойны, так завершенны. Вот хоть сегодняшний. Он чист, как стекло, — во все стороны видно на многие мили. На востоке и на севере, по гребням холмов, каждое деревце выступает отчетливо и ясно. Ни единого дымка там, наверху, хотя прежде, в октябре, от лесных пожаров на Смокимаунтенз наносило грязные полосы пепла. Ни следа тумана вдоль лощины, в которой прячется река Провиденс. Все четко и ясно. Только ровный, постепенно меркнущий свет.
В прошлом месяце вокруг дома все ночи напролет с писком носились два козодоя. Я не думала, что мне будет их не хватать, но, оказывается, не хватает. Сейчас.
Дом притих у меня за спиной; дети готовятся к ужину — раннему ужину, потому что здесь только двое младших. Старшие девочки уехали в Новый Орлеан, в школу. В округе об этом еще не знают, но со временем выведают: у нас тут всегда все знают. Скажут: «На них это похоже, на Хаулендов. Вечно они мудрят, а как же — важные птицы. Ничего, в прошлый раз свернули себе шею, достукались…»
У меня такое чувство, будто я здесь сижу неживая. Будто я, как гранитные жилы, кости земли, бестелесна и нетленна.
Я зажигаю свет на веранде. Я вышла полить герань и теперь принимаюсь за дело. Беру в руки большую жестяную лейку и окропляю густую гряду разлапистых красно-белых цветов. Меня учили, что, если корни влажные, герань лучше перенесет ночные холода. Вот эта, например: ее сверху защищает крыша веранды, а сзади — теплая стена дома, и она не вянет до самой стужи.
Я поливаю кое-как, и на веранду летят брызги. Я смотрю на наш двор, на газон перед домом. Даже при этом сумеречном свете заметно, что он изрыт и истоптан. Слегка похоже на морскую рябь. От частокола вообще ничего не осталось; лишь видно, как мягко, фонтаном, раскинулись ветки розы, которая росла возле него раньше.
Новой ограды я ставить не буду. Я хочу помнить.
Я стою здесь прозрачным вечером, и мне не странно, что я вступила в единоборство с целым городом, со всей округой. Я — одна; да, разумеется, но меня это не очень страшит. Дом и прежде был пустым и одиноким — я просто не замечала, — так что теперь не хуже. Я знаю, что причиню столько же боли, сколько причинили мне. Разрушу столько же, сколько потеряла сама.
Знаете, это тоже способ жить. Способ заставить сердце по-прежнему стучать под защитным сводом твоих ребер. А пока и этого довольно.
Вокруг лампы на веранде порхают большие белые мотыльки; какие-то пузатые жуки хлопаются спинкой вниз и беспомощно копошатся на полу. Удивительно, как это они перенесли холодную погоду. Должно быть, вывелись под домом, в тепле, или в щелях между досками. Из-за угла веранды, неслышно взмахивая крыльями, держась подальше от света, вылетает сова-сипуха.
Я туже запахиваю на себе вязаную кофточку; я опираюсь на перила веранды и смотрю, как наступает ночь. Она из тех ночей, которые надвигаются ниоткуда, расползаются по земле сразу, как влажное пятно по губке. Ветра еще нет; он поднимется позже. Так бывает всегда.
Слышен короткий визг кролика — сова добыла себе ужин.
Я стою на веранде дома, который построил некогда мой пращур, и сквозь открытую дверь слышу, как мои дети топочут через холл: пора ужинать. Малышка Мардж заливается смехом, а Джонни ее поддразнивает: «Ай да ты! Ай да ты!» Звонко разносятся слова в тихом, недвижном воздухе, пока их не обрывает стук двери.
Я тоже когда-то росла в этом доме, носилась по этим комнатам, бегала вверх и вниз по этой лестнице. Тогда здесь было не так красиво — до войны, до того, как мой дед разбогател, — но дом был тот же самый. Как для них, так и для меня. Я ощущаю сзади натиск поколений, они подталкивают меня вперед в круговороте рождений и смертей. Да, это я была когда-то той девочкой, которая брела наверх спать, шепотом разговаривая сама с собой, чтобы отогнать ночные страхи. Моя мать спала в южной комнате, на массивной кровати с балдахином. А дед стоял там, где я сейчас, вот на этом месте… А до него — другие. Садились на этой веранде и смотрели вдаль на поля, отдыхая от дневной жары, скользя взглядом по плавным скатам земли, сбегающим к темному лесу. В те времена лес начинался куда ближе.
Все они умерли, все до единого. Я поймана, опутана тем, что содеяно ими. Как будто их жизнь оставила после себя в воздухе этого дома, этого городка, этих мест сплетение невидимых нитей. А я споткнулась и упала в сеть.
Сова, уже где-то вдалеке, издает свой прерывистый замирающий клич. На миг мне кажется, что я вижу ее крылатую тень на фоне неба над рекой. Я стою в густой тьме и прислушиваюсь к неумолчному гулу голосов у меня в голове и вглядываюсь в людские тени; они вереницей проходят перед глазами, настойчиво требуя внимания. Мой дед. Моя мать. Маргарет. Дети Маргарет: Роберт, Нина, Крисси.
Уже несколько лет я не получаю вестей ни от Крисси, ни от Нины. Я не знаю, где они. Не знаю, что они делают. Даже не знаю, живы ли они. Роберт — другое дело; Роберт вернулся. И давно ли, кажется? Всего лишь три месяца назад. Вернулся, глумясь и ненавидя. Он отделяется от остальных там, у меня в голове, и становится рядом со мной на веранде. Не мальчишка, с которым я вместе росла, не ребенок, которого знала, а мужчина, которого я увидела только три месяца назад.
Он моих лет или около того, хотя держится стариком: потирает ладонью рот, торопливо мигает глазами. Но он все-таки жив. И когда я с собой откровенна — вот как сейчас, в этот вечер, — я знаю, что жалею об этом.
Я хочу рассказать вам историю моего деда, и Маргарет Кармайкл, и мою собственную. Трудно решить, где тут начало, когда все так уводит тебя в прошлое и одно так переплетается с другим. Мой дед был Уильям Хауленд. Маргарет была родом из «фриджеков», из Новой церкви. Хотя началось, в сущности, даже не с этого.