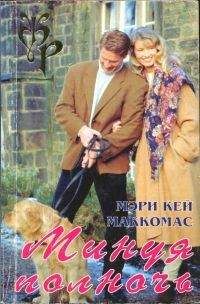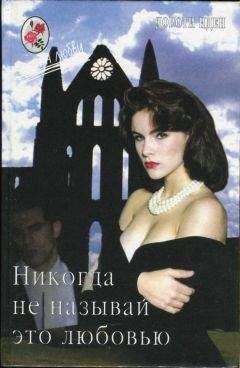Мэри Кей Маккомас
Минуя полночь
— Вот вырасту большим и буду пожарной машиной.
Слова доносились до нее сквозь сон и складывались в образ огромной красной пожарной машины. У этой машины были большие круглые сверкающие глаза и маленький веснушчатый носик, а блестящий передний бампер казался непрестанно движущимся ртом.
— Ты не будешь пожарной машиной, дуралей. Она ведь не живая. А ты должен быть живым человеком.
Дори перевернулась набок и открыла глаза. Опять этот папаша с сыновьями. Ранним весенним утром их голоса звенели за открытым окном, как будто лопались на воде пузырьки воздуха.
— Ну, тогда я буду пожарником, чтобы ездить на пожарной машине. Ладно, папа?
— Конечно, малыш. Станешь тем, кем захочешь. А ты не называй брата дуралеем, — добавил мужчина, обращаясь сначала к младшему сыну, а потом к старшему с неуловимой разницей в интонации. Голос отца детей ей нравился, он был мягким и глубоким, как подземный ручей, который течет медленно, зато проникает всюду, куда ему нужно. Когда она слышала этот голос, ей долго еще потом казалось, что он продолжает звучать в ней самой.
Она зевнула и сладко потянулась, до боли напрягая негнущиеся мышцы, как будто стараясь освободиться от собственной кожи. Приподняв голову, она взглянула на стоящий на тумбочке будильник, пытаясь понять, уезжает это семейство или только что приехало.
Четверть девятого. Они уезжают.
Мужчина был высоким, стройным и широкоплечим. На нем ладно сидел джинсовый костюм. Его старший сын, такой же темноволосый, как отец, был одет в джинсы и куртку, на младшем же красовался бледно-голубой комбинезон и теплое зимнее пальтишко. Волосы у него были ярко-рыжими. По ним можно проверять часы. Каждый день они приезжают в семь утра и в шесть вечера, а уезжают ровно час спустя.
Они всегда приезжали в большом открытом серебристо-черном грузовике, парковались, где хотели, между домом и сараем, шли в поле, к пасущимся на нем коровам, пару раз возвращались к сараю, а потом уезжали. И так каждый день.
Иногда Дори наблюдала за ними из окна второго этажа. Младший забавлял ее своей непоседливостью. Второй же был неуклюж, хулиганист на вид, но в нем уже иногда проявлялось унаследованное от отца чувство собственного достоинства. Отца звали Гиллиам Хаулетт. У него была спокойная уверенная походка, как будто он всегда точно знает, что к чему, что происходит сейчас и что будет дальше. Каждый шаг говорил о том, что ему знакомы мельчайшие камушки и частицы пыли, на которые ступает его нога. Он был уверен, что никогда не упадет. Похоже, он прошел расстояние от дома до ограды поля миллиард раз и ему еще не надоело. Вот этому-то она могла позавидовать.
— Она выйдет сегодня? Как ты думаешь, мы ее увидим? — услышала она тоненький голосок, в котором прозвучала нотка обеспокоенности.
— Не знаю.
— А может быть, она заболела и поэтому не выходит из дома. Может быть, мы должны зайти к ней, навестить? — Голос малыша был наполнен заботой и одновременно любопытством.
— А может быть, она умерла в самую первую ночь, как приехала. Может быть, она лежит там одна и гниет себе потихоньку, а из глаз выползают длиннющие вьющиеся червяки, а…
Младший издал в ответ испуганно-взволнованный возглас, но тут вмешался отец:
— А ну-ка прекрати, Флетчер. Бакс, с ней все в порядке. Когда она будет готова, обязательно выйдет и познакомится с нами. Ну, залезайте, пора ехать.
— Можно мне оставить карту, папа?
Он подумал и сказал:
— Конечно. Почему бы и нет?
— Может, напишем записку, чтобы она нас не боялась?
Дори встала с кровати и на цыпочках подошла к окну. Оно было приоткрыто ровно настолько, чтобы уходил потихоньку запах старой пыли и пустоты дома и доносился звук голосов. Пол под босыми ногами казался ледяным.
— Нет, — ответил Гил, отбрасывая саму мысль о записке для таинственной соседки. — Ты здорово потрудился над картой. Она и так разберется. А теперь давайте-ка залезайте, да поскорей.
Младший забрался в кабину, снова выскочил, зажав в кулачке свернутый в трубочку лист бумаги, и поскакал к дому. Она услышала его шаги на крыльце под окном. Дверь скрипнула и снова захлопнулась.
— Можно, я поведу? — спросил старший, стоя рядом с отцом у кабины и протягивая руку, чтобы получить ключи.
— Нет.
— Почему?
— Сам знаешь.
— Я получил тройку. Ты говорил, что я должен сдать алгебру — я ее и сдал. Тройка ведь неплохая отметка.
— Но только не в моем журнале.
— Я же водил трактор и автокар…
— Только в пределах частной собственности или в открытом поле…
Разговор казался привычным для обоих.
— …всю дорогу до дома Бименов.
— …двенадцать километров, и причем на первой скорости.
— Так, значит, мне можно водить, когда тебе это удобно, но пока я не получу четверку по алгебре, не смогу водить, когда мне хочется?
— Вот именно. Давай-ка в машину, а то опоздаешь в школу.
— А кого это волнует? — пробурчал себе под нос мальчишка. Он обошел машину, подождал, пока брат залезет в кабину, и сердито захлопнул дверцу.
— Меня, — ответил Гил, закрывая свою дверь куда спокойнее. — И попридержи язык, а, то состаришься раньше, чем еще раз сядешь за руль.
— Папа! Папа, смотри! Вот она!
Все трое задрали головы, уставившись на окно второго этажа.
Дори быстро отошла назад, но от ее взора не укрылись живая дружелюбная улыбка малыша, откровенное любопытство во взгляде его брата и хмурая озабоченность на лице отца. Она затаила дыхание и снова потихоньку подкралась к окну посмотреть, что они теперь будут делать.
На какое-то мгновение ее охватил ужас от мысли, что они могут опять подойти к двери и постучать. К этому она не была готова. В тот день, когда она приехала, они подходили к двери дважды — утром и потом вечером. Она не ответила на стук, и они больше не пытались установить контакт. Она была благодарна за такое понимание и до сегодняшнего дня не показывалась им на глаза.
Завелся мотор, заскрипели по гальке колеса, и она вздохнула с облегчением, увидев, что грузовик уезжает. Хаулетты были любопытны от природы. Они старались стать добрыми соседями, не имея ни малейшего представления, что им пришлось бы увидеть и какую страшную цену нужно было бы заплатить за это ей.
Она старалась не чувствовать себя виноватой за то, что отталкивает их, и это ей удавалось. Ей не хотелось самой видеть людей и не хотелось, чтобы люди видели ее. Она не могла быть вежливой и не хотела притворяться. Даже если это выглядело грубо и некрасиво, в ее душе не было чувства вины: