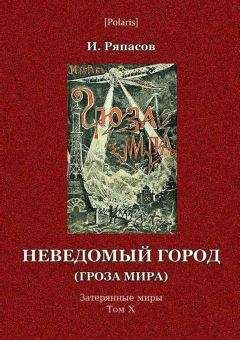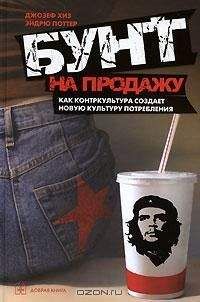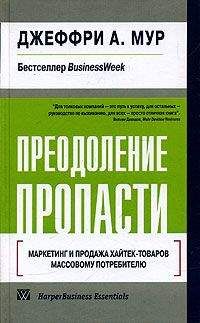Ознакомительная версия.
Но кто может запретить вечерние грезы за книжкой при притушенном свете, когда утомленный после рабочего дня супруг давно уже спит, а из комнаты детей доносится лишь ритмичное дыхание, и весь дом затих, словно и сам дремлет? Тогда чувство одиночества, отдавая смутным привкусом свободы, не может не обратить избалованного воображения в зыбкое пространство, где властвуют фантазии.
Впрочем, всегда существует дистанция между вечерними фантазиями и их реализацией. И если она не пройдена, а чаще всего она и не бывает пройдена, оставаясь всего лишь расплывчатой иллюзорной игрой разыгравшегося воображения, то можно через час присоединиться к мужу и заснуть спокойно у него на плече, согреваясь его застоявшимся теплом, и никакие угрызения совести не потревожат сладкий сон. Лишь, возможно, будет тянуть низ живота, но не отдаваясь болью, а наоборот, скорее успокаивающе.
В принципе для Дины, мамы Элизабет, никаких ни моральных, ни юридических запретов не было – она единственная из всех своих подруг была свободна для возможного романтического увлечения. К тому же мы можем только догадываться, в каком состоянии она пребывала: потеряв мужа три года назад, она все это время избегала новых знакомств, проявляя безусловную твердость, но в то же время лишая себя элементарного женского благополучия.
Но, в конце концов, сколько может себя сдерживать женщина, особенно если она привлекательна и если мужчины постоянно бросают на нее восхищенные взгляды, которых она не может не замечать? Не следует также забывать про нормальные сексуальные потребности, которые, если их долго не удовлетворять, вызывают раздражение и нервную, с трудом контролируемую ажитацию. А ведь в данном случае под словом «долго» понимается три томительных года!
Вполне вероятно Дина тоже отметила представительного, вызывающего всеобщее восхищение драматурга. Были ли у нее мысли или планы приблизить его к себе, к своей дочери – мы не знаем. Но даже если и были, что с того?
А вот Рассел наверняка обратил внимание на незамужнюю красивую мамашу и, без сомнения, оценил ее.
Дело было даже не в ее красивом теле, которое, несмотря на стройность и плавные, округлые формы, как бы не вмещалось в сдерживающее его платье, как бы все равно выбивалось напоказ. А в том, что многолетнее искусственное самоограничение не могло не сказаться, и тело вопреки желанию самой Дины, даже и не подозревавшей о его предательской откровенности, было не только беззащитно открыто, но и как бы набухло от накопившегося нерастраченного желания, от нерастраченной нежности.
Итак, неделя катилась за неделей в шумной, возбужденной подготовке, и наконец настал день долгожданного праздника. Дом быстро заполнился, съехалось десятка четыре гостей, в основном подруги Элизабет с родителями, да приехали еще две-три приятельницы Дины с мужьями и детьми.
Можно, конечно, описать то счастливое волнение, которое владело Элизабет на протяжении всего вечера. Можно в подробностях остановиться на том, как восхитительно она чувствовала себя в пышном своем платье, как приятно было ей сознавать себя хозяйкой этого красивого, особенно сегодня, дома, встречая гостей у порога, принимая поздравления и подарки. Можно рассказать о спектакле, который прошел на «ура», и о том, как рассевшиеся в гостиной на специально взятых напрокат стульях зрители неоднократно прерывали постановку смехом и вздохами сопереживания, а под конец неистово рукоплескали.
А участники спектакля, и прежде всего Рассел, который всегда находился поблизости, выталкивали ее, Элизабет, в центр, так что все могли видеть ее пунцовые от восторга щеки и блестящие, сияющие от счастья глаза. И она склонялась в поклоне, а аплодисменты не сбавляли накала, и ей ничего не оставалось, как попытаться спрятаться внутри вытянувшегося позади нее ряда исполнителей, но она натыкалась на него, и ее снова выталкивали навстречу зрительному залу, который сейчас представлялся ей единым огромным добрым существом, все продолжающим громыхать и громыхать.
Да, можно сказать, что Элизабет была абсолютно, безусловно счастлива в тот день, как может быть счастлив семилетний ребенок. И все же не спектаклем, не подарками, не угощениями и не общим успехом запомнился он ей.
Он запомнился ей тем, что мама выглядела совершенно иначе, не такой, какой Элизабет ее знала и к которой привыкла. И в тот вечер Элизабет впервые догадалась, что их жизнь, та, что началась со дня трагической гибели папы, закончилась. И что теперь их обеих ожидает иная, новая жизнь. Какая – Элизабет не знала.
Вместе с Элизабет мама встречала гостей в коридоре, из него несколько дверей вели в комнаты первого этажа. Она была в специально сшитом к этому дню платье (они вместе ходили к портнихе и обсуждали наряды друг друга, как настоящие подруги), и оно, плотно облегая ее гибкое округлое тело, расходилось книзу широкими элегантными складками.
Дине вообще шли светлые тона, ее каштановые волнистые волосы, карие глаза и немного смуглая, будто загорелая, гладкая, казалось, даже от взгляда лоснящаяся кожа только выигрывали от контраста со светлыми оттенками. Вот и в тот день платье, даже не светло-голубое, а скорее лазурное, впитывало воздух и только подчеркивало плавность легких маминых движений.
И тем не менее Элизабет чувствовала затаенное напряжение в глубине маминого голоса, ее взгляда. Оно как бы невзначай прорывалось и то тут, то там образовывало сгустившуюся массу взволнованного ожидания.
Часть гостей уже съехались, у стены в углу уже громоздилась небольшая горка подарков – коробки, упаковки, свертки, вазы были переполнены цветами. Да и весь дом уже гудел веселым шумом, и Элизабет конечно же хотелось сорваться и побежать в комнаты, где резвилась дюжина детей, но она сдерживала себя – ответственная роль хозяйки, которую она сейчас играла, не допускала детской шаловливости.
А тут к тому же дверь открылась и на пороге появился мистер Рассел, то есть просто Рассел, и Элизабет даже запрыгала от восторга – не то что она ждала его больше других, но когда увидела, радость теплой волной растеклась по ее телу и наполнила, и стало сразу тепло, так что покраснели щеки и даже, как ей показалось, шея и руки.
Она могла бы сдержаться – но зачем? И она рванулась к большому, пахнущему хорошими духами человеку, который всегда был так добр к ней и так жизнерадостно весел, и обхватила его, и прижалась головкой к его тугому спортивному животу.
– Рассел! – закричала она, как будто он был далеко и мог не услышать. – Я должна тебе что-то сказать… про спектакль… Я придумала, что там, когда я попадаю на гору и говорю: «Ну как же мне спуститься?..» – я придумала, что мне надо поднести руку к глазам, вот так, козырьком, и оглядеться вокруг, как будто я ищу тропинку. – Элизабет подняла голову и посмотрела на улыбающегося мужчину снизу вверх доверчиво и восторженно, как всегда смотрят дети на людей, к которым привязаны или готовы привязаться. – Как ты думаешь, я здорово придумала? Потому что иначе…
Ознакомительная версия.