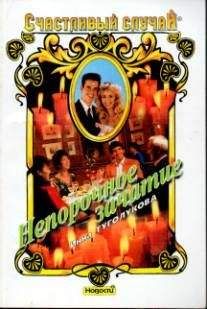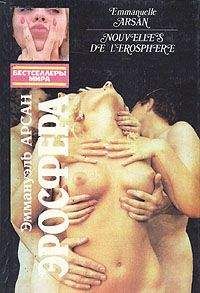— Ну, можно было бы с этого и начать, — не сдавалась Женя.
— Но это ведь само собой разумеется. Кто же мог подумать, что у тебя в этой области накоплен совершенно иной опыт…
— По-моему, я заказывала это яйцо «в мешочек», — задумчиво проговорила Женя, ловко прицеливаясь Лаптеву в лоб.
— Сдаюсь, сдаюсь! — засмеялся тот, закрываясь руками. — Но придет же в голову: «в бане, с мужиками…»
— Еще одно слово… — зловеще предостерегла Женя, многообещающе помахивая яйцом.
Тонкая скорлупа хрустнула, и тягучее желтое содержимое побежало по ее пальцам, стекая на белоснежную скатерть.
— Ты смотри, действительно «в мешочек», — удивился Лаптев.
Танька с Феликсом дружно фыркнули; и Жене ничего не оставалось, как присоединиться к общему веселью.
Сауна располагалась на территории бассейна, который по вечерам не работал, и все огромное помещение оказалось в их полном распоряжении.
Компанию встретила веселая румяная толстушка, все рассказала-показала и предложила свои услуги.
— Спасибо, милая, мы сами управимся, — отказался Феликс, окидывая довольным взглядом красиво накрытый стол.
— Ну, тогда легкого пару. Веники замочены, напитки в холодильнике, чай в самоваре. А еще чего понадобится — позвоните, я принесу. — Она кивнула на телефон и выплыла, мягко прикрыв за собой дверь.
— Та-а-ак! — довольно протянул Феликс, потирая руки. — Командовать парадом буду я!
Страстный любитель попариться, он до тонкостей знал и высоко ценил это ни с чем не сравнимое удовольствие.
— Ну, это ты у себя в мужицком отделении командуй, а мы уж сами как-нибудь разберемся, — охладила его пыл Татьяна.
— Ну, что ж, — легко принял отставку Феликс, — значит, девочки налево, мальчики направо.
Через час они уже сидели в шезлонгах вокруг низкого стола, замотанные в белоснежные простыни.
Лаптев смотрел на Женю — чистое раскрасневшееся лицо без косметики, ясные глаза с мокрыми стрелками длинных ресниц, изумительная линия плеч — и ему так хотелось прижать ее к себе, запустить руку в густые влажные волосы и целовать эти глаза, губы, высокую стройную шею, что сводило скулы.
Женя тоже поглядывала на Лаптева, чувствуя, как все ее истомленное, исхлестанное душистым веником тело жаждет этого мужчину. И он видел это, чувствовал, но не знал, как разрушить стену, которую она с таким непонятным и бессмысленным упорством возвела между ними.
Не похожа она на тех барышень, главной целью которых являлось замужество во что бы то ни стало. Тогда почему отталкивает его, сдерживает свой порыв, такой естественный и нормальный — быть с мужчиной? Ведь оба они свободны…
Его размышления прервал Феликс.
— Внимание, внимание! — возвестил он. — Сюрпризы еще не кончились. Представьте, мои дорогие, что мы, знатные патриции и великолепные гетеры, возлежим на роскошном пиру. А чтобы создать соответствующую атмосферу…
Он перекинул через плечо конец простыни на манер римской тоги, принял величественную позу и воздел руки.
— Как иногда багрянцем залиты
В начале утра области востока,
А небеса прекрасны и чисты,
И солнца лик, поднявшись невысоко,
Настолько застлан мягкостью паров,
Что на него спокойно смотрит око, —
Так в легкой туче ангельских цветов…
В венке олив, под белым покрывалом… [1]
Лаптев и Женя, приоткрыв рты, изумленно воззрились на вдохновенного оратора, а Татьяна, быстро протянув руку, вдруг дернула его за край простыни, и Феликс предстал перед ними во всей своей ослепительной наготе.
Мгновение царила немая сцена, взорванная затем гомерическим хохотом «гетер» и второго «патриция». А Феликс, выйдя из столбняка, присел и, прикрывая рукой пах, суетливо кинулся подбирать простыню. Но Татьяна ловко подтягивала ее к себе, и он все никак не мог ухватить за кончик.
Женя уже не могла смеяться — подвывала, хватая воздух сведенным судорогой ртом.
Но не родился еще человек, способный обескуражить Феликса Прожогу!
Он оставил бесплодные попытки поймать простыню, раскованной походкой фотомодели прошел к стоящему в углу искусственному цветку, оторвал листик, плюнул на него, прихлопнул к своим могучим чреслам и принял позу культуриста, играя накаченными мышцами.
— Нет такого фигового листка, который мог бы прикрыть мощь настоящего мужчины, — гордо возвестил он.
И посрамленная толпа ответила ему аплодисментами и криками восторга…
Дни шли за днями, и Лаптев все меньше времени уделял своим юридическим проблемам. Собственно, особой необходимости в этом и не было: он так глубоко влез в дело и так долго им занимался, что серьезной подготовки к предстоящим судебным прениям не требовалось.
Теперь они подолгу бродили с Женей по тенистым лесным тропинкам и говорили, говорили, говорили. Между ними оказалось удивительно много общего. Они любили одни и те же книги, фильмы, спектакли. Испытывали схожие чувства, пристрастия и неприязни. Будто две равные половинки одного целого, идеально дополняющие друг друга.
— А что ты больше всего любишь из еды? — спрашивала Женя.
— Да я всеяден.
— Ну а все-таки.
— Картошку с селедкой, — усмехался Лаптев.
— М-м, — мечтательно жмурилась она. — Рассыпчатая картошечка в мундире, жирная селедочка, лучок колечками с маслом и немного уксуса — объеденье!
— И кусочек сала из морозилки…
— И квашеная капустка…
— И бородинский хлебушек…
И они весело смеялись, лукаво поглядывая друг на друга.
Они спешили рассказать о себе как можно больше, словно боялись, что другой такой возможности уже не будет.
Впервые после гибели родителей Володя заговорил о своих тогдашних переживаниях. Женя слушала, склонив голову, не перебивая, не задавая вопросов. Когда Лаптев замолчал, они обнялись и немного постояли, словно подпитывая друг друга энергией жизни.
И только ему Женя рассказала о самом трагическом событии в своей жизни — уходе Бориса. Даже с Танькой она не была столь откровенной.
«Почему я так обнажаю душу перед этим незнакомым, чужим человеком? — дивилась Женя. — В ответ на его доверчивость? Или мы просто как случайные попутчики в поезде дальнего следования — знаем, что скоро расстанемся навсегда. Навсегда. И не придется потом ни краснеть, ни жалеть о своем чистосердечии…»
Прошла неделя, началась вторая, и каждый новый день казался короче предыдущего.
Женя гнала мысли о стремительно надвигающейся разлуке, считая ее неизбежной. Убеждала себя, что легко его забудет: с глаз долой — из сердца вон. Но понимала, что это не так. Будет помнить, и страдать, и жалеть о своем глупом упрямстве.