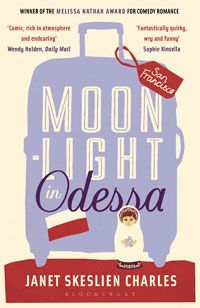Я рассчитывал прийти на концерт заранее, но немного припоздал; пришлось сесть в первом ряду, только там еще оставались свободные места. Некоторые исполнители бродили по залу и болтали, другие настраивали инструменты. Кроме флейт, всё — современного производства. В глубине, за ширмой, распевалась на высоких нотах сопрано. Вне сомнения, любительница, хотя голос уже поставлен, не режет варварски слух.
Появился запыхавшийся мужчина с хвостиком седых волос на затылке, поразительно похожий на того посетителя, что сидел на терраске кафе. Лицо его раскраснелось от бега. В руках он держал футляр, судя по форме, — с теорбой[13]. До начала оставалось пять минут, а на настройку теорбы уходит минут десять, не меньше. Усевшись точно напротив меня, оркестрант поставил между ног свой объемистый инструмент с нелепо длинным грифом и стал подтягивать струны. Это и впрямь оказался тот самый посетитель, с терраски «Майолики». Вот уж кого я никак не ожидал здесь увидеть. В памяти живо всплыло мое посещение кафе, я смутился. В «Майолике» я вел себя, как недоросль. Даже молокосос. Но после неудачной попытки найти забытую книгу (и еще раз увидеть ту девушку) я повзрослел. И твердо решил впредь держать себя в руках.
Можно было подумать, что «Акида и Галатею» исполняли специально ради меня: опера целиком посвящена безнадежной любви. В отпечатанную на ксероксе программку было вложено либретто на английском и даже краткое изложение эстонского вступления:
В нимфу Галатею, дочь нереиды, влюблен Полифем — гигант Циклоп с безобразным телом. Но Галатея любит юного пастуха Акида, сына бога Пана. Однажды, когда Галатея отдыхала на морском берегу, положив голову на грудь Акида, Полифем неожиданно напал на этих и в доступе ярости убил Акида, раздавив его под огромной скалой. Галатея, прибегнув к волшебным чарам, увековечила свой усопший любовник в фонтанном потоке некончающемся.
Наконец, исполнители удалились, и наступила долгожданная тишина.
Из-за ширм вышел мужчина в синем костюме с шелковым шарфом на шее и вздыбленными, как у Бетховена, волосами. В его речи я разобрал только имена: Гендель, Акид, Полифем, Галатея, Овидий и арахис масло; впрочем, последнее было, скорее всего, лишь случайным созвучием слов. Раздались сдержанные аплодисменты, мужчина поклонился; публика хлопала дольше, чем принято в Англии, но меньше, чем в Германии. Как только появились исполнители, аплодисменты, почти затихшие, вспыхнули с новой силой; судя по мощному крещендо, в зале сидели друзья и родные артистов.
Я, однако, не хлопал. Мои ладони застыли в воздухе, я замер с невидимым мячом в руках и разинутым от удивления ртом, на верхней губе выступили капли пота. Рядом с теорбистом, прямо передо мной — наши колени разделяло футов шесть, не более, — усаживалась со скрипкой в руках официантка из кафе «Майолика».
В итоге все произошло по вине музыканта, игравшего на теорбе. До определенного момента наши с ней глаза ни разу не встретились. Я упорно разглядывал других музыкантов и стоявших сзади певцов — и тех и других было по доброй дюжине. Когда же мой взгляд случайно падал на нее, она сосредоточенно смотрела в стоявшие на пюпитре ноты. Партия у нее и так несложная, но ее, вероятно, еще упростили — на мой взгляд, официантка играла примерно на уровне хорошей ученицы шестого класса музыкальной школы. В программке я нашел имена скрипачек: Каджа и Риина. Стало быть, одна из двух. Почему-то имя Риина ей подходило больше. Имя Каджа вызывало у меня ассоциации со словом «кадка». Одета она была в черное платье с мягкими, свободно болтающимися манжетами, которое напоминало, к сожалению, одеяние ведьм.
На ее лице, сменяя друг друга, вспыхивали разные чувства, будто с него сняли верхний, маскирующий, слой. Оно походило на водную поверхность, которая под каплями дождя покрывается рябью, вмятинками и лунками. На нем попеременно отражалось все — радость, тревога, робость. Она сидела, чуть ссутулившись; в ярком свете прожекторов, смягченных парой желтых фильтров, ее высокие скулы блестели, напоминая что-то, но что именно, я вспомнить не мог, хотя сквозь музыку Генделя мне почудился некий вздох или дуновение — отдаленный и очень приятный звук.
Скрипка у нее чуточку потерта, как часто бывает со школьными инструментами. Ни малейшего признака, что она меня узнала. Да и с чего бы? Ей каждый день приходится обслуживать сотни посетителей. Я чувствовал себя четырнадцатилетним юнцом. Нет, старцем. Лет тридцати семи.
Чтобы отвлечься, я переключил внимание на прочих музыкантов. Виолончелист прямо-таки сошел с карикатуры Хоффнунга[14]: очень высокий, тощий, практически без подбородка, надо лбом торчит лохматый хохолок, пиджак болтается на узких плечах. Одна альтистка, играя, страшно пучила глаза и становилась невероятно похожей на Кеннета Уильямса[15]. Теорбист дергал головой в такт музыке, гриф его теорбы, подобно длинному носу корабля, разрезающего морские волны, двигался то вверх, то вниз над головой официантки. Арфист в волнении кусал губы. Певцы, мужчины и женщины самых разных форм и габаритов, для любителей оказались совсем не плохи. Тенор, исполнявший роль любовника Акида, был пузатым коротышкой, а певший партию Полифема бас — высоким блондином. У него были каучуковые губы; из-за этого фрагмент его арии, который начинается словами Я свирепею… Таю… Я горю! Божок ничтожный сердце мне пронзил! сопровождался фонтаном слюнных брызг, сверкавших в свете прожекторов. Дородная Галатея пугала огромными зубами, зато пела почти дискантом.
До той минуты я никогда не замечал, что женская спина невероятно похожа на скрипку: свет играл на плавных мускулистых изгибах полированного дерева, яркие ромбы скользили мимо осиной талии. Не могу понять, отчего скрипичные мастера предпочитают любому дереву ольху. Один изготовитель скрипок как-то объяснил, что ольха — дерево влаголюбивое, и поэтому, мол, когда он обтачивает детали скрипки, ему представляется речная излучина или взбухающая волна. Но у меня на уме было одно: нежная округлость голой плоти.
Хор временами напоминал домашнее любительское пение, английский превратился в тарабарщину, но от музыки Генделя голова моя совсем пошла кругом. Всё казалось золотистым, прекрасным, пронизанным тенями и образами допромышленной эпохи. Почему эта девушка не замечает меня? Страсть ничуть не изменилась с 1718 года. А то и с Золотого века, когда на Сицилии в пещерах Этны обитали циклопы.
Куда, прекрасная, ты рвешься?
Зачем в объятья не даешься?
На мой взгляд, ей чуть за двадцать. Надо надеяться, уже совершеннолетняя. Вдруг меня поразила мысль, что я не Акид, а Циклоп. Она по-прежнему избегала смотреть на слушателей, на меня. Глаза у нее были густо-зеленые. Нет, синие. Или даже серые. Может, бирюзовые? Такое бывает? Она уже не официантка, она скрипачка, скрипачка-любительница. Как будто это оправдывает мою тягу к ней.