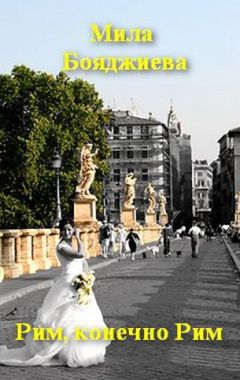Он просматривал историю болезни нового пациента, когда услышал нечто невозможное: за окном раздался пронзительный, прерываемый страшными паузами захлеба, плач. Через секунду он был уже внизу, в цветнике, разбитом прямо под окнами приемной. К груди Ванды, стоящей на коленях среди розовых маргариток, захлебываясь плачем, содрогаясь всем телом, приникла Тони. Побелевшие от напряжения крошечные пальцы впились в ворот вандиного свитерка, лицо спрятано в тесную лунку между плечом и щекой. Крупные частые слезы, скатывающиеся из-под опущенных ресниц Ванды к дрожащему подбородку, падают в смоляные кудри ребенка, поблескивая в их густой, великолепной черноте алмазной россыпью.
Все это с ненормальной подробностью шока сразу отпечаталось в сознании Готтлиба, а уж потом он увидел тело няни, метрах в двух в стороне. Над ним уже склонился Натан, разрывая с треском окровавленную блузку.
Позже, когда девочку удалось уложить в постель, напоив теплым чаем с валерианой, из ее обрывочного, прорывающегося сквозь наваливающийся сон, лепета, кое-что удалось уточнить, хотя Натану и так все было ясно.
Тетя с сумкой передала коробочку для малышки и плюшевого медведя. Девочка взяла медведя, а няня – коробку. Они только сняла с коробки ленту…
Находящаяся сейчас в реанимации няня была ранена взрывом самодельного устройства, не слишком сильного, чтобы убить, но достаточного, чтобы искалечить и напугать.
Вряд ли теперь можно было затягивать решение: Франсуаза с девочкой должны покинуть клинику. Ах, зачем ты замешкал тогда, Готтлиб, вернувшись в свой кабинет? Может, успели бы? Прорвались? Прощай, несбывшаяся кукурузная ферма. Прощая, Антония…
…Готтлиб не стал прощаться с отбывающими Штеллерманами. Он изо все сил старался не прислушиваться к голосам и беготне, хлопанью дверей и чьему-то смеху, боясь различить в суматошной оркестровке отъезда Ее смех, Ее голос. Запершись в кабинете, он бессмысленно разглядывал стоящую на письменно столе фотографию чужой девочки – той, леденцевской, белесой крошки, которой никогда уже больше не будет.
Ванда тщетно пыталась вытащить мужа прощаться с уезжающими – он буквально прирос к креслу с усилием открыв ящик стола. – Отдай ей это, – протянул он жене тяжелый томик с вытесненным на кожаном переплете православным крестом. – Пусть всегда будет с ней.
Ванда распахнула плотные, пожелтевшие страницы – похоже молитвенник с мелкой старомодной кириллицей, а на форзаце под чьей-то размашистой чернильной подписью, рукой мужа начертано: «апрель 1972. От Йохима-Готтлиба Динстлера – Тебе».
Похоже, он прощался с дочерью навсегда…
Ранним майским утром на прогулочной палубе океанского лайнера «Олимпия» царило необычайное для этого времени суток оживление. Как-то по особому щедро светило солнце, подчеркнуто элегантно играл флажками на мачтах и шелковыми подолами в меру свежий ветерок, непривычно громко смеялись и говорили, узнавшие вкус возвращения к жизни, люди.
Нет, не больничные палаты и санаторные скверики дарят это пьянящее ощущение выхода из безнадежности в мечту, от тьмы и немощи – к свету и силе, а комфортабельные лайнеры, скользящие по загадочной чересполосице штормов и штилей. Уныние беспросветной качки между хлябью небесной и вспененной, рвущейся к горлу водой, неотступная маята, выворачивающая нутро, как-то сразу, щелчком божественных перстов, сменяются здесь ослепительной благодатью, дающей все сразу, сполна: покой, волю, радость. Остается растянуться в полосатом шезлонге, до блеска вымытом волной, пахнущем морем, хрустнуть замлевшими косточками, потягиваясь к потеющему в полотняной тени бокалу и растаять в блаженстве: «Хорошо!»
Еще ночью Ванда поняла, что качка утихла. Опустив ноги на мягкий ковер, она почувствовала устойчивую надежность пола и легко, не хватаясь за стены и прикрученную к полу мебель, подошла к иллюминатору. И чуть не ахнула: не бортовой фонарь заглядывал сквозь толстое стекло, заливая каюту голубоваты светом. Огромная луна во всю полноту бледного диска висела над усмиренной водой, играя бегущими серебром протянутой прямо к Ванде «дорожки».
А потом она проснулась уже от солнца: три дня штормовой качки казались ночным кошмаром, растаявшим с наступлением утра. Ванда посмотрела на часы, привинченные к обитой гобеленом стене – 10! Не удивительно, что она осталась в одиночестве, кто же может так долго валяться в надоевшей постели, когда за бортом безбрежная синева с пальмовыми очерками проплывающих стороной островков.
Ванда быстро оделась, выбрав после секундного колебания все белое – узкие брючки, свободный вязаный пуловер и белые босоножки на девятисантиметровых, сужающихся к низу «рюмочках». Баста, эпоха качающейся палубы, задраенных наглухо плащей и спортивных ботинок завершена! Открываем новый сезон – сияющая белизна с отблеском радостно-алого. Надевая новые коралловые серьги и браслет, купленные на Корсике, Ванда с удовлетворением отметила, что утомленную вялость осунувшегося лица надежно скрыл свежий, лоснящийся от кокосового масла загар, а шоколадные плечи выглядят аппетитно. Все-таки, отдых на островах пошел ей на пользу. Она задумалась с пудрой в руке, который раз припоминая незабываемый эпизод!
Конечно же, они жили на Гавайях в одном из лучших отелей и пара бывших пациентов мужа, случайно встреченная там, сделала свое дело – за спиной четы Динстлеров шушукались, они стали местными знаменитостями, знакомства с которыми добивались многие.
Бомонд беззаботных пляжников, наслаждающихся в апреле теплой водой, солнцем, ленивым необременительным флиртом, состоял из людей, довольно заметных в обыденной деловой жизни и, конечно же, чрезвычайно занятых. Там за пределами беззаботного отдыха их ждала профессия, карьера, банковские операции и деловые обязательства, нужные связи и тягостные знакомства, изнурительный бег на перегонки, увлекательные интриги, стрессы, слава.
А пока – гулять и валяться на солнце, шлепать босиком по ракушечным плитам сада, нырять до посинения с аквалангом, жевать местную экзотику в подозрительных забегаловках и шикарных ресторанах, щеголять до самого обеда в затасканных шортах и позволять себе совершенно безответственные высказывания и поступки в стиле школьного дуракаваляния, даже если ты известный журналист, процветающий бизнесмен, задумчивый доктор или утонченная поэтесса.
В один из последних вечеров «гавайского рая» компания собралась в ресторане, расположенном на покрытой цветочными зарослями крыше двадцатиэтажного отеля. Здесь играл известный на все побережье бразильский оркестр, а кухня отличалась особым мастерством в приготовлении омаров и сеговиды – местного блюда, включающего чуть ли ни все, произрастающие здесь фрукты и идущей исключительно под специальный кокосовый ликер, рецепт которого держался в гордом секрете.