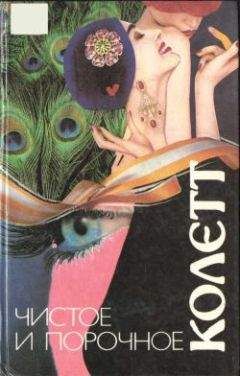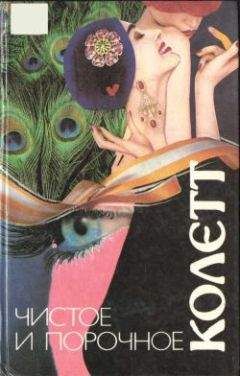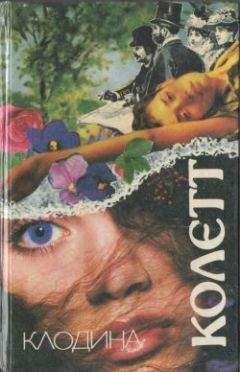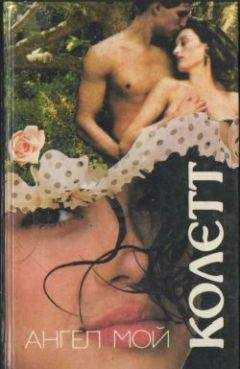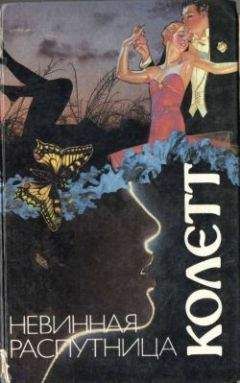– Скоро рассветёт, – сказал Ахмед.
– Вот и отлично! Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, мсье, спасибо.
Худенькая, холодная, как ледышка, рука скользнула в ладонь Бернара и замерла. «Ему холодно. Ещё бы, столько крови потерял…»
– Послушай, малыш, если я попытаюсь взвалить тебя на спину, эта повязка свалится, она и так держится на честном слове. А уж если я упаду с тобой на плечах, будет совсем скверно… Но, с другой стороны…
– Я могу дождаться утра, мсье. Я себя знаю. Дайте мне только ещё сигарету. Азиз каждое утро опускается со своим осликом поливать огороды и проходит здесь. Он скоро будет.
Боннемен с облегчением закурил, чтобы заглушить начинавшие мучить его голод и жажду. Пропел петух, откликнулись другие, поднялся ветер, всколыхнул ветви, принёс усилившийся запах кедров, благоухание глициний, и между деревьев проступила небесная голубизна. Бернар вздрогнул: в мокрой от пота рубашке стало холодно. Время от времени он брал юношу за запястье, считал пульс:
– Ты спишь, Ахмед? Не засыпай. Скажи, Касем, который это сделал, он далеко?
Он следил за лицом Ахмеда и видел его всё отчетливее по мере того, как загоралась заря. Запавшие чёрные глазницы, щёки, подёрнутые тенью, но не от пробивающегося пушка, – всё это тревожило его.
– Скажи мне, он ушёл? Ты видел, куда он побежал?
– Недалеко, – ответил Ахмед. – Я знаю…
Его свободная рука бессильно упала, так и не выпустив сигарету; глаза закрылись. Бернар едва успел поддержать откинувшуюся назад голову, пощупал раненое плечо. Но нет – тёплая влага не сочилась сквозь повязку, и глубокое дыхание спящего говорило уху Боннемена, чутко ловившего малейший звук, о равномерном притоке и оттоке крови. Он подставил колено под отяжелевшую от сна голову, вынув из пальцев, которые даже не почувствовали этого, потухшую сигарету и замер. Запрокинув лицо, он смотрел, как рождается день, и душа его наполнялась незнакомым блаженством: это было чувство, поразительное своей новизной, как любовь, но куда шире и свободное от плотского влечения. «Он спит, я охраняю его сон. Он спит, я охраняю…»
Примятая трава потемнела от обильно растёкшейся крови. Ахмед, не просыпаясь, что-то гортанно забормотал по-арабски, и ладонь Боннемена погладила его лоб, отгоняя дурные сны.
«Роза теперь уже вернулась и даже легла. Бедная Роза… Так быстро всё кончилось. Она мне пара, но он – мое подобие. Странно: надо было забраться в такую даль, в Танжер, чтобы встретить свое подобие, единственное существо на свете, которым я могу гордиться, того, благодаря кому я могу гордиться собой. С женщиной иначе: всегда чуть-чуть стыдишься – её или себя. Мое чудесное подобие! Стоило ему появиться…»
Без тени отвращения он смотрел на свои руки, на коричневую каёмку под ногтями, линии на ладонях, превратившиеся в красные бороздки, засохшие ручейки крови, змеившиеся до самых локтей…
«Говорят, у подростков потери восстанавливаются быстро. Он, должно быть, единственный сын или старший; ему обеспечен хороший уход. Молодой мужчина в этих краях – большая ценность. А этот к тому же красив; он уже любим, и у него уже есть соперник. Подумать только, что если бы не я…»
Он приосанился и от переполнявшей его радости улыбнулся всему окружающему.
«Женщины… Я всегда заранее примерно могу сказать, чего мне надо от них и чего им надо от меня. Я ещё найду другую Розу. Розу чуть получше или чуть похуже. Но не так легко найти ребёнка и одновременно мужчину настолько обескровленного, настолько незнакомого и бесценного, чтобы не жаль было пожертвовать несколькими часами жизни, выходным костюмом, ночью любви…
Решительно, мне на роду написано так и не узнать, розовее ли груди Розы, чем её пятки, и отливает ли живот перламутром так же, как её колени. Мектуб,[3] сказал бы Ахмед».
Вдали, в конце длинной, отлого уходящей вверх аллеи, розоватый отсвет обозначил место, где встанет над морем солнце; унылый рёв осла и позвякивание колокольчика приближались с вершины холма.
Прежде чем приподнять Ахмеда, Боннемен проверил, крепко ли затянуты узлы импровизированной повязки. Затем он обхватил обеими руками юношу, так и не открывшего глаза, вздохнул запах сандала, исходивший от чёрных волос, неловко ткнулся губами в щёку – уже жёсткую и шершавую щёку мужчины – и почувствовал тяжесть молодого тела, поднял его бережно, как если бы держал свое дитя, плоть от плоти своей или драгоценную добычу – ту, что выпадает охотнику лишь раз в жизни.
– Проснись, малыш. Вот и Азиз.
Патио – внутренний дворик в восточных домах.
Бико – букв. «козёл»; презрительная кличка, которой французы называют североафриканцев.
Мектуб – предначертано судьбой (араб.).