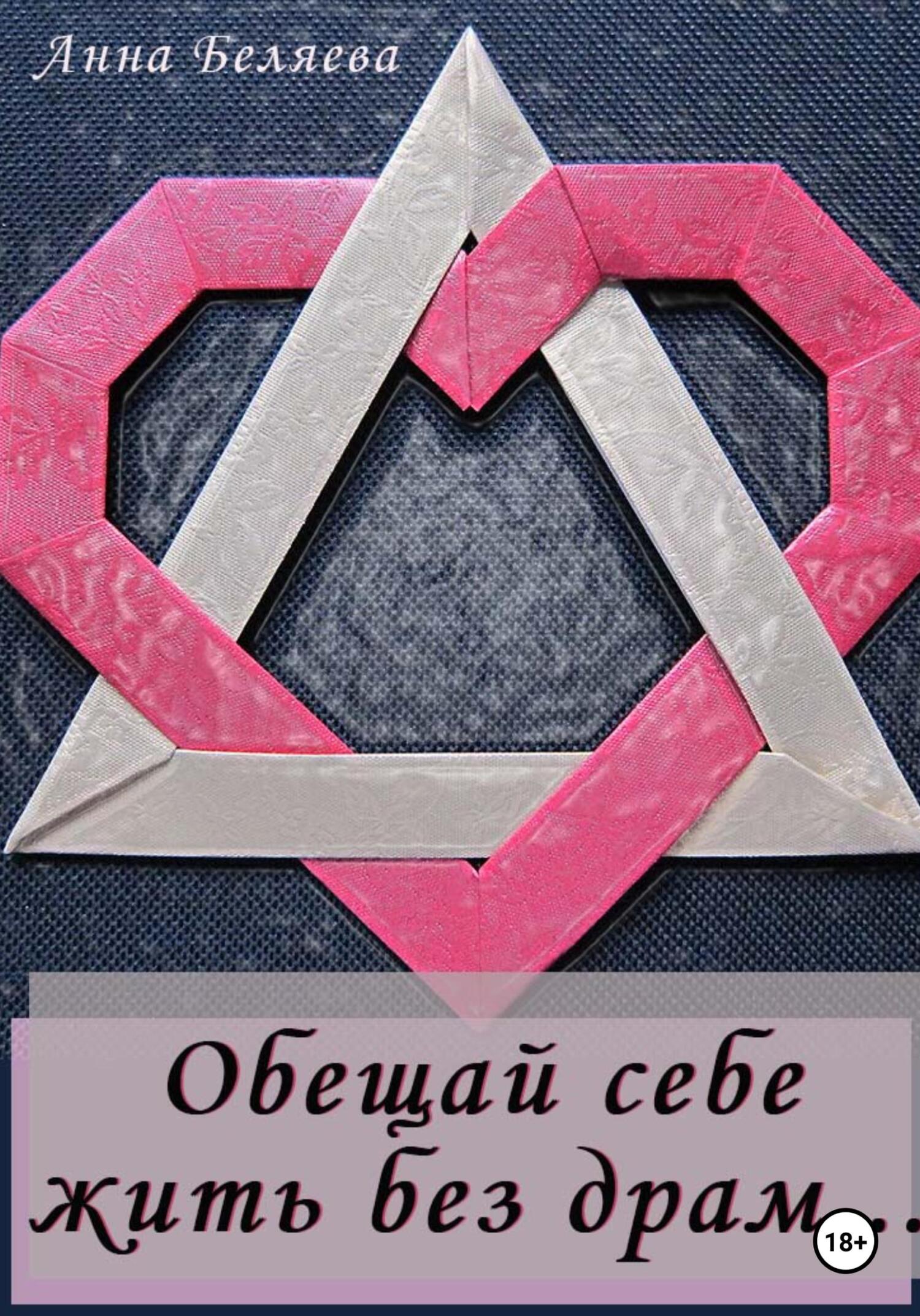раз — и оголился, думаю. Открылся, как за карточным столом, хоть его и не просили «показать».
— Ри-и-и-ик… — стону в голос. — Он просто подвез меня тогда.
Это не пояснение и не оправдание — просто я понимаю, что не хочу больше закрываться и блефовать. От того, как делюсь с ним чем-то из моей личной жизни, мне самой малопонятной, мне становится необъяснимым образом легче.
Вглядываясь ему в глаза, безмолвно «рассказываю»: потом тебя не было рядом, а был он. Он — бывший, а с бывшими — с ними ведь как…
— Я был у Риты, — объявляет он просто. — Я был с ней. Сначала. Потом — не с ней. А теперь я с тобой.
Это так странно — мы знакомы уже несколько месяцев и столько же месяцев не разговаривали друг с другом. Сейчас вроде как начали — и оказывается, понимаем друг друга с полуслова. С полувздоха.
Теперь, когда я окунулась в чувства — свои, его — ревность ярким, жгучим всполохом обжигает мой мозг, слепит мой взгляд, который отражается в его глазах — синее пламя на сером. От этого его серое угрожающе темнеет: он «предлагает» мне стерпеть, принять, как есть, и его шляния «у Риты», и не у Риты, и то, что он свалил — меня не спросил, свалил, когда и насколько посчитал нужным. Еще мне предлагается принять то, что он вернулся и, кажется, не намеревается уходить. Пока. Вопросов же задавать не предлагается.
Со мной, естественно, этот номер не пройдет, он ведь в курсе. Пусть и он, и Миха-гад порядком измочалили мне сегодня нервы — я оклемалась.
Сейчас показываю ему всё и наши взгляды щелкают друг другу в бешеной азбуке Морзе:
«А я типа только тебя ждала? У окошка?»
«А разве нет?»
«Мне предлагается больше никуда не рыпаться?»
«Ты сама не хочешь рыпаться. Я ж теперь с тобой».
«В качестве кого?»
«Зачем тебе эти условности? В качестве того, кто тебе нужен. И кому нужна ты».
«К ней, значит, не вернешься?»
«В планах не было».
«Надолго ты?»
«На сколько надо».
Во мне острым, пикантным блюдом клокочет жаркое негодование, которое сжиманием кулаков вонзаю к себе в ладони.
Продолжаю «открываться» как можно более демонстративно — поворачиваюсь к нему задницей и, вывернув шею, смотрю на него исподлобья.
— Я с тобой и тебе со мной лучше, — наставляет меня Рик.
Острота прожигает горло, бьет током во внутренности.
— Со мной лучше, — говорит он уверенно, твердо глядя мне в глаза. Он облокотился локтями о мою голую спину.
— Хм-м? — поднимаю брови.
— Лучше, чем с ним. А с ним не лучше.
Потягиваю-похрустываю шеей, будто она у меня затекла:
— Не помню.
— А я, блять, не спрашиваю, — в его голосе — глухая, хриповатая волчья угроза. — Знаю, что со мной лучше.
— Это хорошо, — уже не потягиваюсь — смотрю ему в лицо внимательно, сузив глаза.
Не говорю, что и сама так думаю. Не поясняю, что словно и не помню того, бывшего, как не помню, как это было, когда только что почувствовала на лице ядовитый огонь его пощечины.
Не помню, потому что забыла того и до, и после. Потому что вообще про все забыла, пока со мной, во мне был он. Рик. Взъерошенный. Нежный. Бесконечно нежный. Нет, не поясняю, хотя ему понравилось бы слушать, знаю. Но сегодня я вообще ничего никому не поясняю. День такой.
— Прям не помнишь? — легонько звереет он, надвигаясь на меня глазами, а гневные руки, пробравшись подо мной, властно сжимают мои груди.
Ух ты. Пока не знала его брутальным в постели. Нарвалась?..
Выдерживаю волчий взгляд, а на мне где-то в районе попы твердеет его член и упирается затем в участок моего тела, пока еще оказывающий мнимое сопротивление.
Со жгучей радостью чувствую его новое пробуждение и собирающуюся влагу у себя между ног. Новую влагу, как новую росу нового утра — такую он еще не пробовал, в такой не купался. Продолжить? Искупать?..
Ломота у меня в паху пробирается почти до поясницы. Как хочется прореветь ему, чтобы вошел сейчас же, иначе… да сама не знаю.
— Не помню, — шепчу и неожиданно для самой себя легонько улыбаюсь. — Его не помню.
— Хер бы ты его помнила…
Рик неистово разворачивает меня на спину и пробует меня рукой. Оскаливается, довольный пробой, вставляет в меня член, а сам лезет ко мне, будто горло рвать хочет. Но его оскал устремлен на мои соски, что чешутся уже от возбуждения. Он не кусает их, а лижет, будто волк, вдруг ставший псом, зализывающим раны у хозяина… хозяйки. Он лижет мои соски, и от его голодного языка их покалывает, будто он и вправду их кусает.
— Хер ли помнить… — поясняет он, работая языком, — … если он тебя пиздил… долбоеб — ебать бабу… женщину без этого не может — хер ли тебе его помнить…
«А ты можешь» — думаю я. «Мысли текут во мне подобно реке, текут, как ты — во мне. Ты любишь меня матом, а твой член дарит мне те нежности, которые ты своим поганым, грязным, красивым, сладким языком не хочешь произносить».
— А вот меня запомнишь. И каждый раз будешь запоминать — до следующего раза.
Предъявы собственнического характера, думаю, нежась в них.
Рик увлекается и втанцовывает в меня с полузакрытыми глазами, танцует во мне свой волчий танец, примитивный в своем неистовстве, весь в рубящих ритмах. Грубый, как слова его, дикий, как его взгляд, щемящий, режущий экстазом, как он сам.
Если теперь или потом спросить его — он это специально, он умеет так или у него, как у зверей, все это — на инстинктах, то что он скажет? Рыкнет — мол, че несешь, я ж не скотина, а мужик, просто трахаться умею. Так что спрашивать его бесполезно. Припоминаю, что когда-то Миха казался мне искусным любовником, но тотчас отбрасываю эту мысль, как безнадежно устарелую.