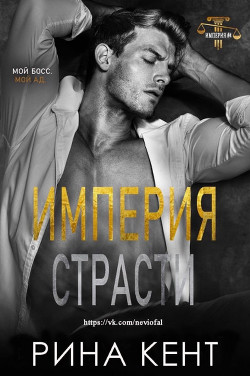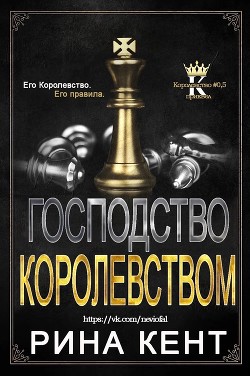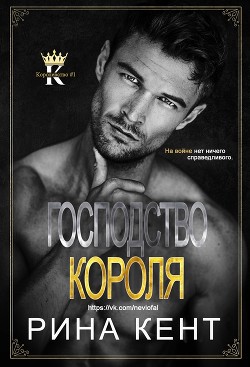тебя четыре лучших раза?
— Нет какого-то конкретного порядка. Первый раз, когда я заставил тебя кончить. Первый раз, когда я отсосал тебе. Первый раз, когда я тебя трахнул. Второй раз, когда я трахнул тебя после того, как ты все время ревновал. Первый раз, когда ты встал передо мной на колени. Когда ты набросился на меня, как только я вошел в пентхаус, и потребовал, чтобы я тебя трахнул. Когда ты согласился остаться на ночь. Когда ты разбудил меня, обхватив губами мой член.
— Уже больше четырех, и все они со мной.
— Ты — лучший секс в моей жизни, малыш.
Я приподнимаюсь и скрещиваю руки на его груди так, чтобы смотреть на его красивое лицо и великолепные влажные волосы, рассыпающиеся по подушке.
— Ты хочешь, чтобы я поверил, что я лучше, чем все те мужчины и женщины, которых ты трахал?
— С ними все было только физически. Они ничего не значили.
— А я?
— Малыш, ты, блять, значишь все.
Мое сердце снова бешено стучит, и я готов поклясться, что он чувствует это своей грудью, но меня это не волнует настолько, чтобы отстраниться от него.
Я провожу пальцами по его новой татуировке, и меня охватывает чувство яростного собственничества.
— Хорошо. Потому что ты — моя собственность, Нико. У тебя есть татуировка, чтобы доказать это.
— А ты — моя, — выдыхает он с тем же неистовым чувством собственничества.
Он притягивает мои губы к своим, и мы целуемся, кажется, целую вечность. Затем я поднимаюсь, чтобы достать влажные салфетки и вытереть нас, после чего снова опускаюсь ему на грудь.
Николай подкладывает руку под голову и наблюдает за мной с той постоянной ухмылкой, которая доступна только мне.
Она медленно исчезает, и на ее месте появляется хмурый взгляд.
— Что случилось? — спрашиваю я.
Он хватает меня за запястье, и мое дыхание прерывается, когда он снимает мои часы. Я не останавливаю его, хотя каждая часть меня требует этого.
Сердце замирает, когда он с облегчением вздыхает, увидев, что я не предался своим привычкам саморазрушения.
Я жду, что он отпустит меня, но он проводит большим пальцем по шрамам на коже, и чем больше он прикасается ко мне, тем труднее становится дышать.
Моя поганая голова начинает туманиться, и я погружаюсь в черное озеро своего психического состояния.
Я пытаюсь высвободить руку, но Николай крепко держит ее в своей, оценивая выражение моего лица.
— Помнишь ту часть, где ты больше не можешь от меня прятаться?
— Не думаю, что сейчас подходящее время…
Он качает головой, и слова застревают у меня в горле.
Прикосновения Николая становятся мягче, а голос — нежнее.
— Расскажи мне, малыш. Я просто хочу понять и помочь тебе. Если ты не будешь говорить со мной, я не буду знаю, с чего начать.
— Я в порядке…
— Что я говорил об этом гребаном слове?
— Я действительно в порядке. С этим покончено.
— Не уверен, врешь ты мне или себе сейчас.
— Ты не можешь просто забыть об этом?
— Нет, я не могу просто отпустить все, когда это огромная часть твоей сущности. Почему ты не можешь мне сказать? Ты мне не доверяешь?
— Нет, нет, конечно, доверяю, — это потому, что я настолько доверяю ему, что до смерти боюсь его реакции.
Он бросит тебя, когда узнает, что ты сделал. Все остальные будут видеть в тебе слабака, которым ты и являешься.
Я сглатываю комок в горле, когда этот голос молотком отдается в моей голове.
— Тогда какого хрена ты прячешься от меня? — в его голосе звучит разочарование, и я хочу стереть его, хочу защитить, особенно от себя.
Потому что он не должен меня любить. Я причиню ему боль, даже непреднамеренно, но знаю, что причиню.
Но я даю ему кое-что, всего лишь часть правды.
— Помнишь, я говорил тебе, что ненавижу себя?
Он кивает, выражение его лица смягчается, и он становится совершенно неподвижным, как будто мои слова — это церемония, которую он не посмеет прервать.
— Давным-давно я совершил нечто отвратительно ужасное и не смог… простить себя за это. Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я вижу ту версию себя, и не могу ее вынести. Потребность разрушить и сжечь ее бурлит во мне каждую секунду каждого гребаного дня. Вот почему я перестал рисовать людей, животных и все, что имеет глаза. Мне кажется, что они — мое собственное отражение в зеркале, преследующее меня повсюду, — я с трудом улыбаюсь. — Единственная причина, по которой я никогда не принимал с тобой душ, — это то, что я не хотел, чтобы ты видел эту версию меня всякий раз, когда я смотрю в зеркало в ванной. Прости.
— Не извиняйся, — его голос смягчается. — Ты можешь рассказать мне, что именно ты сделал, что начал чувствовать себя так?
— Когда-нибудь. Мне просто нужно собраться с мыслями, чтобы заговорить об этом. Ты можешь подождать?
— Конечно, и, малыш? — он целует меня в макушку, и от его следующих слов у меня чуть не случается сердечный приступ. — Даже если ты будешь ненавидеть себя, я буду любить тебя за нас обоих.
Николай
Если бы несколько недель назад кто-нибудь сказал мне, что мой цветок лотоса поведет меня на одно свидание, не говоря уже о трех, я бы вызвал скорую помощь.
Но вот мы уже на третьем свидании. Именно. На третьем. На улице. В окружении людей. И он не паникует.
Я смотрю на его руку в своей, наши пальцы переплетены, и я незаметно щиплю себя за затылок. Больно. Это не гребаный сон.
Мы идем по грунтовой дорожке в его любимом парке в Лондоне, который находится недалеко от места, где он живет, — Хэмпстед-Хит.
Он сказал, что ему нужно как-то расслабиться после всех тех туристических мероприятий, по которым я его таскал с собой. Лондонский глаз, Лондонский мост — или Тауэрский мост, как он любил меня поправлять, с крайне снобистским выражением лица, позвольте добавить, — Замок Камден и целый день на продуктовом рынке. Вчера мы побывали везде, от Угольного двора до Восточного Лондона, а затем вернулись в центр города и в Ковент-Гарден, где посмотрели какое-то оперное шоу в Королевском оперном театре.
Это определенно не мое, и я чертовски выделялся даже в формальной одежде.
Но я пошел ради Брэна, ведь он любит все эти чопорные и правильные вещи. Кроме того, в костюме он выглядел чертовски аппетитно, так что не на