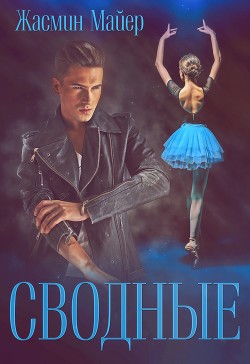Пускай знакомится. Я хочу знать, кто он. Где работает, кем. Где живет, с кем. Я встречусь с ним только один раз, чтобы Доминика не знала, но он на всю жизнь запомнит и усвоит — обидит ее, украсит своим памятником городское кладбище.
Мы едем в поселок, в дом. Для всех у меня в лесу дача, и когда Талера достает город, он прячется там от людей. Дом в самом деле на отшибе, вокруг лес, так что все по легенде. В общем, так оно и есть, но прятаться от людей я предпочитаю на островах или возле океана. Когда опускаешься на морское дно, человеческое дно уже не кажется таким отвратным. А здесь я просто держу деньги.
Цокольный этаж — настоящий бункер, хер туда попадешь. Пароль от сейфа — день рождения Доминики. Беру сотку. Конечно, Саркис эти деньги не получит, это страховка на случай, если что-то пойдет не так. Но думаю, все получится.
Я пойду сам, не стану перекладывать на «расстрельную» команду, сегодня Талер солирует, а они остаются на подтанцовке. И клянусь, от такого привата у Саркиса и его дружков неслабо подгорит. В самом прямом смысле.
До вечера время вагон, и я везу Нику в за шмотками. Она подозрительно притихла, сидит, смотрит исподлобья на дорогу и молчит, с самого ресторана такая. Съезжаю на обочину и заглушаю двигатель. Поворачиваюсь к Веронике и за подбородок тяну к себе. Вот теперь хорошо, глаза в глаза.
— Ника, — уже напряглась, смотрит испуганно. Чтобы успокоить, провожу большим пальцем сначала по одной губе, потом по второй. Прижимаю.
Они как кровью налитые, потому такие яркие, ведь она их не красит. Сами по себе будто припухшие, магнитом тянут. Не могу удержаться, выше подтягиваю и целую. Сначала просто языком по губам прохожусь, а потом глубже толкаюсь. Вспоминаю как внизу ее ласкал, сразу от головы к члену откатывает, ширинка натягивается, чуть не лопается, ну какая же девочка мне досталась оху…нная…
Меня штормит, затягивает в поцелуй, а она не шелохнется. Отодвигаюсь, беру ее руки и закидываю себе за шею, а потом снова губы ртом ласкаю. И про другие думаю, они тоже у нее быстро кровью наливаются, и такие сладкие становятся, что я даже запах их слышу. В голове начинает шуметь, перед глазами все мутнеет.
Стону и подминаю ее под себя. А она упирается, сучка малая, я платье задираю и в бедро пальцами впиваюсь. Зубки сцепила и язык выталкивает, мне даже смешно делается. Играет со мной, маленькая совсем…
— Ника, — придавливаю к спинке и шепчу на ушко, обхватываю мочку губами и прохожусь языком, — я же тебя сейчас тут трахну прямо на трассе. Что ты делаешь?
Напрягается подо мной, и я понимаю, что это не игра. В грудь упираются ладони — кисти узкие, пальчики длинные. Хочу, чтобы она не упиралась в меня ими, а гладила. Или лучше себя, сминала свою ох…ительную грудь, сидя на мне. Теперь я точно знаю, как трахну ее вечером, снизу.
— Ника!
— Тимур, — поднимает на меня свои большие глаза, темные и блестящие. Черный шоколад. Или маслины. — Кто такая Доминика?
* * *
Я молчу и смотрю перед собой, уперевшись руками в руль. Мне нечего ответить. Я мог бы сказать, что это маленькая девочка, которую я впервые увидел на сцене актового зала детского дома. Которая смогла каким-то образом пробраться внутрь меня. И которая умудрилась придать моей жизни смысл, потому что я оказался ей нужен.
Девочка, которая писала мне письма и признавалась в любви. Я не верю в любовь, я слишком циничен, но Доминике нельзя было не верить. Мне запретили видеться с ней, но я мог приходить и смотреть, как она живет без меня — играет, бегает, смеется. Прятаться, чтобы она не видела, и смотреть.
Я мог рассказать, как несколько лет боролся за право опеки. Как хотел забрать ее из детдома, потому что видел, как она беззащитна и неприспособлена для детдомовской жизни. И что мне ее так и не отдали.
Я много чего мог бы рассказать громко и пафосно, если бы не было того дня, когда я возненавидел себя. Когда поклялся, что больше не подойду к этой девочке ближе чем на несколько метров. Дня, после которого я долго не мог отмыться, потому что чувствовал себя грязным извращенцем с потными руками.
Ей еще не было пятнадцати. Я приехал в детдом к Борисовне, привез одежду, которую купил детям — всю из бутиков, потому что Борисовна запретила одевать одну Доминику. А мне хотелось, чтобы моя девочка была самой красивой.
Мелкий дождь сменился ливнем. Когда я вышел из дверей, увидел Доминику с подружками, они бежали к крыльцу совсем вымокшие. Я встал за колонной, чтобы она меня не увидела, и смотрел. До сих пор мне мерзко от самого себя, я не должен был там стоять и пускать слюни, но я стоял, до крови впившись ногтями в ладони.
Она была в простом летнем платье, платье намокло, прилипло к телу, по длинным волосам стекала вода. Доминика смеялась и переговаривалась с девочками, а я стоял, будто меня гвоздями прибили, и понимал, как это правильно, что мне не отдали Доминику.
Потому что она больше не была той маленькой девочкой, которую я знал. Я должен был уйти, не смотреть, но поделать с собой ничего не мог. И от этого было еще омерзительнее.
Она была все еще по-детски угловатой, с длинными ногами и тонкими руками. И сама тоненькая, талия наверняка уместилась бы у меня в ладонях. Но платье, ставшее прозрачным от дождя, показывало, как меняется Доминика. И когда я представил, что мои пальцы смыкаются на ее талии, внутри забили настоящие гейзеры.
Впервые в жизни я благодарил всех, кто пресек мои попытки и завернул документы об опеке. Потому что я — долбаный извращенец. Я проклинал себя последними словами, но так и не тронулся с места. Девочки скрылись в здании, а я пошел к машине и стоял под дождем, пока одежда не промокла насквозь.
С тех пор я запретил себе думать о ней. Я хотел, чтобы она осталась в моей памяти маленькой девочкой, которая встала с инвалидной коляски, потому что я ее об этом попросил. Которая писала мне письма и хранила подаренную мною игрушку. Остальное меня пугало.
Я больше не приезжал и не следил за ней, не хотел видеть, как она превращается во взрослую девушку. Я боялся себя. Потому что не был готов, что моя маленькая Доминика вырастет. Потому что лучше сдохнуть, чем ее захотеть. Всего этого я не мог рассказать девочке, которая сидела рядом, чтобы меня не стошнило от самого себя.
Поворачиваюсь, смотрю на Нику. И до меня медленно доходит, почему меня так тянет к этой сладкой девочке. У них одинаковое телосложение, цвет волос, похожие имена. Даже платье у Ники похоже на то, что меня чуть с ума не свело тогда.
— Доминика? — она почему-то вздрагивает и смотрит так удивленно, что даже рот приоткрывает. Наверное, я слишком надолго ударился в воспоминания. — А почему ты спрашиваешь о ней?
— Ты назвал меня во сне Доминикой, — отвечает не сразу, будто спохватывается. А я смотрю пристально в глаза.
Вообще-то, я не разговорчив, тем более во сне. Хотя с появлением в моей жизни Ники уже ни за что не готов поручиться, кроме того, что трахаться теперь хочется вдвое чаще. Если не втрое.
— Хорошо, — киваю медленно, — я скажу. Доминика — она как и я, детдомовская. Я ей помогаю.
— И все? — тянет разочарованно, а потом поднимает глаза и спрашивает шепотом: — Это просто девочка, Тим, или ты ее любишь?
— Я никого не люблю, — говорю, не глядя, и завожу двигатель. Машина мягко трогается с места, а я кладу Нике руку на коленку и глажу шелковую ножку.
— Она не моя девочка, Ника, если ты об этом. Сейчас ты моя девочка. И больше мы об этом не говорим.
Глава 10
Сижу в машине и поглядываю на часы. Пздц, как медленно тянется время. Чтобы отвлечься, вспоминаю Нику в бутике. Все, что она надевала, мне нравилось, я сам отбирал ей одежду. И если бы я не решил, что секс у нас будет после того, как все закончится, и Ника обязательно будет сверху, я бы трахнул ее прямо в примерочной.