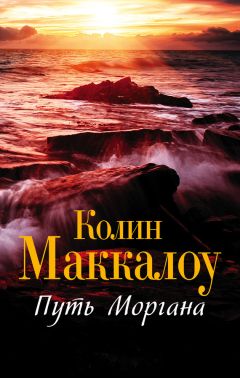В ту минуту, как я вылез из машины Роба, ты решила, что все ясно, все само собой разумеется, не так ли, Мэгги? Подумала: наконец-то я сдался. И еще не успела опомниться, как мне пришлось показать тебе, что ты ошиблась. Я разорвал твою розовую надежду в клочья, словно грязную тряпку. Ох, Мэгги, что же я с тобой сделал? Как я мог быть таким слепым, таким черствым себялюбцем? Вот приехал тебя повидать – и ровно ничего не достиг, только истерзал тебя. Все эти годы мы любили друг друга по-разному и совсем друг друга не понимали».
А Мэгги смотрела ему в глаза, и в ее глазах все явственнее сквозили стыд и унижение; а по его лицу проносились тени самых разных чувств, под конец оно выразило безмерную жалость, и тут она поняла, как страшно, как жестоко ошиблась. Хуже того, поняла, что он это знает.
Прочь отсюда, беги! Беги от него, Мэгги, сохрани последние жалкие остатки гордости! Едва подумав так, она вскочила и в самом деле кинулась бежать.
Она не успела выбежать на веранду – Ральф перехватил ее, она с размаху налетела на него с такой силой, что закружилась сама и едва не сбила его с ног. И все оказалось напрасным: изнурительная внутренняя борьба, долгие старания сохранить душу в чистоте и силой воли подавить желание; в один миг Ральф пережил десять жизней. Все силы, что дремали в нем, заглушенные, подавленные, только и ждали малого толчка – и вот взрыв, хаос, и разум раболепно склоняется перед страстью, и воля разума гаснет перед волей плоти.
Руки Мэгги взлетели и обвили его шею, его руки судорожно сжались у нее за спиной; наклонив голову, он искал губами ее губы, нашел. Ее губы – живые, теплые, уже не просто непрошеное, нежеланное воспоминание; она обвила его руками, словно никогда больше не выпустит; сейчас казалось, она – воск в его руках, и темна как ночь, и в ней сплетены память и желание, нежеланная память и непрошеное желание. Наверное, долгие годы он жаждал вот этой минуты, жаждал ее, Мэгги, и отвергал ее власть, и попросту не позволял себе видеть в ней женщину!
Донес ли он ее до постели на руках, или они шли вместе? Ему казалось – он ее отнес, а может быть, и нет; но вот они оба на постели, и он ощущает ладонями ее тело и ее ладони на своей коже. О Господи! Мэгги, моя Мэгги! Как же меня с младенчества приучили думать, будто ты – скверна?
Время уже не отсчитывало секунды, но хлынуло потоком, и захлестнуло его, и потеряло смысл, осталась лишь глубина неведомого доныне измерения, более подлинная, чем подлинное время. Ральф еще ощущал Мэгги, но не как нечто отдельное, пусть же окончательно и навсегда она станет неотделимой частью его существа, единой тканью, которая и есть он сам, а не что-то, что с ним спаяно – и все же иное, особое. Никогда уже ему не забыть встречного порыва этой груди, живота, бедер, всех сокровенных линий и складок этого тела. Поистине она создана для него, ведь он сам ее создал; шестнадцать лет он лепил и ваял ее и сам того не подозревал, и уж вовсе не подозревал, почему он это делает. Сейчас он не помнил, что отказался от нее когда-то, что другой провел ее до конца по пути, которому он положил начало, который сам избрал для нее и для себя, ведь она – его гибель, его роза, его творение. Сон, от которого ему уже не пробудиться, пока он – человек из плоти и крови. «О Господи, милостивый Боже! Я знаю, знаю! Я знаю, отчего так долго, так упорно думал о ней как о бесплотном образе, о ребенке, когда она давно уже выросла из этой тесной оболочки, но почему через такой жестокий урок открылось мне это знание?»
Ибо только теперь он наконец понял, что всегда стремился не быть всего лишь человеком, мужчиной, – он желал большего, судьбы несравненно более великой, чем дается обыкновенным смертным. И вот чем все кончилось – вот она, его судьба, под его ладонями, пылает и трепещет вместе с ним, женщина – с мужчиной. Человек остается человеком. «Боже милостивый, неужели ты не мог избавить меня от этого? Я – человек и вовеки не стану Богом, и моя жизнь, искания, попытки возвыситься до божества – все это был самообман. Неужели все мы, слуги церкви, одинаковы и каждый жаждет сам стать Богом? И поэтому отрекаемся мы от единственного акта, который неопровержимо доказывает нашу человеческую суть?»
Он крепче обнял ее, глазами, полными слез, при слабом свете сумерек всмотрелся – лицо у нее тихое, нежные губы приоткрылись, вздохнули изумленно и счастливо. Она оплела его руками и ногами – живыми, гибкими шелковистыми узами, мучительно, нерасторжимо; он зарылся лицом ей в плечо, прильнул щекой к ее нежной щеке и отдался сводящему с ума отчаянному порыву, словно боролся с самой судьбой. Мысли кружились, мешались, сознание померкло, и вновь ослепительная вспышка; на миг он очутился внутри солнца, и вот блеск тускнеет, серые сумерки, тьма. Это и значит быть человеком, мужчиной. Большего не дано. Но боль не от этого. Боль – в последнем миге развязки, в бесповоротном, опустошающем, безнадежном сознании: блаженство ускользает. Невыносимо с ней расстаться – расстаться теперь, когда она ему принадлежит, ведь он сам создал ее для себя. И он отчаянно, поистине как утопающий за соломинку, цепляется за нее, и вскоре новый вал, прилив, так быстро ставший знакомым, поднимает его, и он покоряется неисповедимому человеческому жребию – жребию мужчины.
Что такое сон? – спрашивала себя Мэгги. Благословение ли, передышка в жизни, отголосок смерти или докучная необходимость? Как бы там ни было, Ральф покорился и спит, прислонясь головой к ее плечу, обхватив ее одной рукой, словно даже во сне утверждая, что она принадлежит ему. Она тоже устала, но не позволит себе уснуть. Будто опасается дать поблажку сознанию: вдруг, когда вернешься к действительности, Ральфа уже не окажется рядом. Спать она может после, когда проснется он и эти загадочно сомкнутые красивые губы вымолвят первые слова. Что он ей скажет? Пожалеет ли о том, что произошло? Доставила ли она ему такую радость, что стоило ради этого от всего отказаться? Сколько лет он боролся, не поддавался этой радости, и ее заставил бороться; и трудно поверить, что вот наконец он лежит в ее объятиях – но ведь ночью, терзаясь своей болью, он говорил ей слова, которыми зачеркнул то долгое от нее отречение.
А она несказанно счастлива, за всю жизнь ей не припомнить такого полного счастья. С той минуты, как он перехватил ее в дверях, все стало поэмой плоти – объятия, руки, тела, невыразимое наслаждение. «Я создана для него, для него одного… Вот почему я почти ничего не чувствовала с Люком!» Ее несло девятым валом почти уже нестерпимой страсти, и оставалась только одна мысль: отдать ему все, всю себя – это важнее самой жизни. Пусть никогда, никогда он ни о чем не пожалеет. Какой болью он терзался! В иные мгновения она и сама ощущала эту боль. И оттого становилась еще счастливее: есть же и справедливость в том, что ему больно!