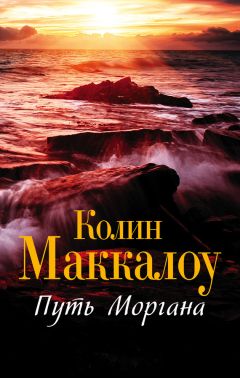А она несказанно счастлива, за всю жизнь ей не припомнить такого полного счастья. С той минуты, как он перехватил ее в дверях, все стало поэмой плоти – объятия, руки, тела, невыразимое наслаждение. «Я создана для него, для него одного… Вот почему я почти ничего не чувствовала с Люком!» Ее несло девятым валом почти уже нестерпимой страсти, и оставалась только одна мысль: отдать ему все, всю себя – это важнее самой жизни. Пусть никогда, никогда он ни о чем не пожалеет. Какой болью он терзался! В иные мгновения она и сама ощущала эту боль. И оттого становилась еще счастливее: есть же и справедливость в том, что ему больно!
Ральф проснулся. Она заглянула ему в глаза – и в их синеве увидела все ту же любовь, что согревала ее с детства, придавала смысл ее существованию, и с любовью – безмерную, беспросветную усталость. Ту, что означает: утомлено не тело, без сил осталась душа.
Он думал о том, что впервые проснулся в постели не один; и такое пробуждение, пожалуй, еще сокровеннее, чем близость, которая ему предшествовала, знак, что их с Мэгги связуют узы более глубокого чувства, что он с ней – одно. Вольный, невесомый, как волшебный здешний воздух, напоенный соленым дыханием моря и ароматом пропитанной солнцем листвы, он некоторое время парил на крыльях неведомой ему прежде свободы: какое облегчение – отказаться от борьбы, к которой он вечно себя принуждал, как спокойно на душе, когда проиграл наконец долгую, невообразимо жестокую войну и оказывается, поражение много сладостнее, чем битва. «Да, я отчаянно воевал с тобой, моя Мэгги! И все же под конец не тебя, разбитую вдребезги, надо мне склеивать по кусочкам, а кое-как собирать собственные обломки.
Ты поставлена была на моем пути, дабы я понял: лжива и пуста гордыня пастырей таких, как я; подобно Люциферу, возжаждал я сравняться с Богом, и, подобно Люциферу, я пал. Я жил в целомудрии, а до Мэри Карсон и в бедности. Но до нынешнего утра никогда я не знал смирения. Боже, не будь она мне дорога, было бы не так тяжко, но в иные минуты мне кажется, я люблю ее много сильней, чем тебя, – и этим тоже ты меня караешь. В ней я не сомневаюсь – а в тебе? Какой-то обман, призрак, насмешка. Можно ли любить насмешку? И однако же я люблю».
– Если бы мне удалось собраться с силами, я пошел бы искупаться, а потом приготовил бы завтрак, – сказал он, надо ж было наконец что-то сказать, и почувствовал, как дрогнули в улыбке ее губы у его груди.
– Иди искупайся, завтрак я приготовлю сама. И незачем ничего на себя надевать. Сюда никто не придет.
– Настоящий рай! – Он сел на постели, спустил ноги на пол, потянулся. – Чудесное утро. Может быть, это предзнаменование?
И уже боль разлуки, оттого лишь, что он встал с постели; Мэгги лежала и смотрела, как он идет к дверям, ведущим в сторону лагуны; шагнул на порог, остановился. Обернулся, протянул руку.
– Пойдешь со мной? А потом вместе приготовим завтрак.
Был прилив, риф скрылся под водой, раннее солнце уже припекало, но беспокойный летний ветерок нес прохладу; жесткие травы тянули усики по мельчайшему песку, где сновали в поисках добычи крабы и всякие букашки. Ральф смотрел вокруг широко раскрытыми глазами.
– У меня такое чувство, словно я вижу мир впервые, – сказал он.
Мэгги стиснула его руку; вот и награда за все, это солнечное пробуждение еще непостижимее, чем неправдоподобная, как сон, подлинность минувшей ночи. Она смотрела на него и не могла наглядеться. Время, которое не умещается в сознании, неведомый мир.
И она сказала:
– Да ты и не видел его раньше. Не мог видеть. Это наш мир, пока мы здесь.
– А что такое Люк? – спросил он за завтраком.
Мэгги склонила голову набок, подумала.
– С виду он не очень на тебя похож, тогда мне просто казалось, потому что я страшно скучала, еще не привыкла без тебя. Наверное, я потому за него и вышла, что он напоминал мне тебя. Ведь все равно я решила выйти замуж, а он был на голову выше других. Не то что достойнее, или милее, или какие там еще качества женщинам полагается ценить в мужьях. Тут что-то другое, сама толком не понимаю. Разве что, пожалуй, в одном смысле он и правда на тебя похож. Ему тоже не нужны женщины.
Ральф болезненно поморщился:
– Вот как ты обо мне думаешь, Мэгги?
– Если по правде – да. Я никогда не понимала, отчего это, но, по-моему, так и есть. И ты, и Люк в глубине души почему-то уверены, что нуждаться в женщине – слабость. Я не про то, чтобы спать с женщиной, я о том, когда женщина по-настоящему нужна.
– И с такими мыслями ты все-таки не отказываешься от нас?
Она пожала плечами, улыбнулась чуть ли не с жалостью.
– Ох, Ральф, я ведь не говорю, что это не важно, и, конечно же, из-за этого я много мучилась, но так уж оно есть. Глупо было бы мне зря тратить силы – бороться с тем, чего все равно не одолеть. В лучшем случае я могу воспользоваться этой слабостью, но не закрывать на нее глаза. Мне ведь тоже чего-то хочется, и что-то мне нужно. Очевидно, мне желанны и нужны такие, как ты и Люк, иначе я не изводилась бы так из-за вас обоих. Вышла бы за хорошего, доброго, простого человека, вот как был мой отец, за такого, кому была бы желанна и нужна. Но наверное, в каждом мужчине есть что-то от Самсона[8]. А в таких, как ты и Люк, это особенно сильно.
Он как будто ничуть не оскорбился, только улыбнулся:
– Мудрая моя Мэгги!
– Это не мудрость, Ральф. Просто здравый смысл. Никакая я не мудрая, ты и сам это знаешь. Но посмотри на моих братьев. Подозреваю, что старшие, уж во всяком случае, никогда не женятся, даже подружек не заведут. Они до невозможности робкие, им страшно – вдруг женщина получит над ними власть, и они без памяти любят маму.
Проходили день за днем, ночь за ночью. Даже летний ливень – и тот был прекрасен, хорошо было гулять, ощущая его на обнаженной коже, теплый и ласковый, как само солнце, хорошо слушать, как он шумит по железной крыше. И в солнечные часы они тоже гуляли, грелись, лежа на песке, плавали – Ральф учил ее плавать.
Порой, незаметно для Ральфа, Мэгги смотрела на него и отчаянно старалась запечатлеть в мозгу каждую черточку его лица – ведь как она любила Фрэнка, а меж тем с годами его облик все тускнел в памяти, и уже не удавалось мысленно его увидеть. И вот она силится запомнить глаза Ральфа, и нос, и губы, и ослепительные серебряные пряди – крыльями в черных волосах, и все это крепкое тело, еще помолодому стройное, упругое, только, пожалуй, не такое гибкое, как прежде. А потом он обернется, поймает на себе ее взгляд, а у самого в глазах тревога, скорбь, обреченность. И она понимала, или ей казалось, будто понимает, о чем говорят эти глаза, – он должен уехать, возвратиться к церкви, к своим обязанностям. Быть может, у него уже не будет отныне прежнего пыла, зато он станет лучшим, чем прежде, слугою церкви. Ведь только тому, кто хоть раз поскользнулся и упал, ведомы превратности пути.