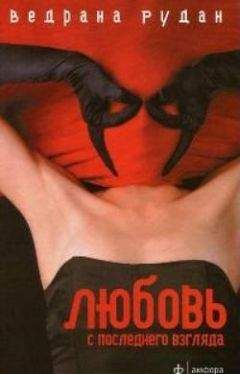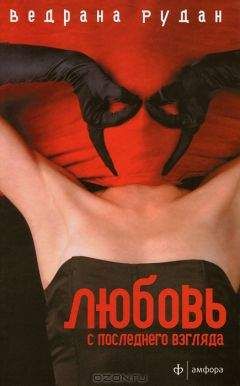Может быть, эти чудеса творит тряпичная кошка, набитая польским сеном? Польское сено? Не просто высохшая трава, которая когда-то росла на каком-то поле, я уткнулась носом в траву, которая недавно росла в Польше. Мебель у нас на кухне грязная. У всех такое чувство, что здесь мы временно, нет смысла отмывать мелкие желтые жирные точки. Я сказала дочери:
— Золотце, в ванной просто свинарник.
— Золотце, — сказала мне дочка, — скажи это сыну или мужу.
— Золотце, — сказала я ей, я всем говорю «золотце», одним потому, что не могу вспомнить имя, другим для того, чтобы не свернуть им шею, — золотце, — сказала я, — твой папа болен, брат грязнуля, бабушка старая, она и так старается как может, меня нет.
— О’кей, мама, я оценила, это просто супер, что ты не разоралась, я оболью всю ванную комнату доместосом, она будет блестеть, как капелька дождя на хромированной сушилке для белья, я имею в виду сушилку, которую я купила в «Метро».
Мы с ней обе заулыбались, а почему — не знаю. Если бы мы не оплатили сыну обучение в американском университете в Вене, ванная у нас была бы чистой. Почему я послала сына учиться в Вену? Я слышала, что там учится сын Каддафи. Люди, которые вместе учатся на американском факультете, остаются друзьями на всю жизнь. Я не помню никого, с кем я вместе училась, Высшая школа управления, факультет труда. Кампус — это другое дело, мы все видели фильмы об американских кампусах. Зеленые газоны, студенческие комнаты-студии на двоих, библиотека, профессора на аккуратных дорожках, они в очках и в вельветовых пиджаках с кожаными заплатами на локтях… О моей высшей школе фильм никто не снимет. Она была в центре города, теперь там частный медицинский центр кожных болезней. Обоссанные стены, на углу магазинчик, рядом, на лавках, пьяные, преподаватели часто опаздывают или не приходят вовсе оттого, что где-то еще у них есть другая работа, поприбыльнее… Все студенты — будущие референты. Я годами работала референтом. Надо посмотреть в Интернете, кто такой референт. Ничего, написано или по-русски, или по-английски. Я была совершенно уверена: мой высокий, красивый сын и сын Каддафи подружатся и станут братьями. Все остальное войдет в историю. Когда мой сын поступил на американский факультет в Вене, у мусульман еще не было такой репутации, как сейчас, сейчас мне бы и в голову не пришло ничего похожего, какой Каддафи, все было бы по-другому. Я пыталась выудить у сына какие-нибудь доказательства того, что он вписался, снюхался с богатыми. Однажды он вскользь упомянул, что какой-то парень из Белграда, который приезжает на факультет на «БМВ» ручной сборки, пригласил его с собой в Братиславу, в бордель. Орально двести марок, час секса триста марок, ночь пятьсот марок, кока-кола пятьдесят марок.
— Зачем ты мне это рассказываешь? — сказала я.
— Ты должна знать, как живет твой сын, мама, все было оплачено, но я только выпил кока-колу.
Он смеялся надо мной, издевался. А Америка! Год учебы — двадцать тысяч долларов. Что я была за идиотка?!
Йошка идет в ванную. Он в ванной. Пьет воду. Многие мои подруги остались без мужей. Когда был мир, мужья их до смерти избивали. Потом пришла война, и некоторых из этих мужей убили четники, потом их вдовы, правда не все, только некоторые, получили великолепные квартиры.
— Бог все-таки есть, — сказала моя мама, — бедняжки теперь вздохнут с облегчением, но как грустно, что хорватские семейные драмы должны решать четники.
Йошко выходит из ванной. Заходит в свою комнату, которая до войны была нашей. Разумеется, моя мама и дети присматривают за ним, оберегать человека с ПТСРом и днем и ночью — это признак порядочности. Кто эти люди? Когда они взрывают только самих себя, о’кей, теперь об этом даже в черной хронике не упоминают. Однако они часто привязывают к себе слишком большие бомбы, и вместе с ними взлетает на воздух полквартала.
Я не зла, просто устала, не могу больше, сыта по горло и Триестом, и синьорой Эммой. На ужин немного каши из желтой манки на молоке. Фрукты я покупаю только себе, за свои деньги, синьоре Эмме иногда даю один мандарин, правда даю без особой охоты. Вечером синьора Эмма выпивает таблетки, а я сижу в гостиной, смотрю, как голые итальянки хлопают телевизионному ведущему, который хлопает публике, чтобы публика хлопала ему, и думаю: где мои дети, почему моя мама жива, кто этот мужчина в нашей спальне, но, с другой стороны, Магде еще хуже, чем мне. Ее муж пьет в Варшаве, дочь за деньги таскается с туристами по Загребу, она хочет стать телеведущей, получила диплом специалиста по кроатистике [9] , по-хорватски говорит так, что лучше невозможно, и интенсивно трахается с правильными типами. Как она получит работу в Хорватии, если у нее нет гражданства? Или она его уже получила, а Магда это от меня скрывает? А я мотаюсь туда-сюда, тут альцгеймер, там паркинсон.
Я ничего не знала о войне. Я смотрела и «Сутьеску», и «Неретву», и «Козару»[10] , но деталей не помнила. Йошко отправился воевать в городок километрах в тридцати от нашего города, на нем была маскировочная форма, на субботу и воскресенье он сначала мог приезжать домой, четники обстреливали городок из орудий, рукопашная не предвиделась. Если тебя убьет снаряд, пока ты играешь в карты в каком-нибудь брошенном сербском доме или в подвале, это Божья воля, четники к этому не имеют никакого отношения. Человека может, например, сбить перед домом мусорная машина, если у него день рождения, а у машины нет зеркала заднего вида. Я была уверена, что Йошко вернется живым. Когда-то давно я смотрела один фильм, «Возвращение домой». Муж идет на войну, во Вьетнам, кажется, героиню играет Джейн Фонда, а может, и нет, не помню, был ли он ее мужем до войны или она на него наткнулась уже после войны. Солдат после заварухи вернулся в инвалидной коляске. Сидел в коляске, а она лежала, он ее вылизывал, а она кончала. Именно эти кадры пронеслись у меня в голове, когда я махала Йошко из окна. Мирко заехал за ним, они отправились на фронт в его машине. Почему я не проводила его до машины и не обняла? Потому что его уход на войну я вовсе не воспринимала как судьбоносный поступок. Как можно всерьез воспринимать войну, в которой участвуют военные, имеющие право по выходным возвращаться к себе домой? В худшем случае, думала я, Йошко вернется в инвалидной коляске и будет меня лизать. Я и так не верю в оргазм без применения языка. С Йошко я больше не сплю. Его психиатр мне сказал: «Попробуйте секс, может быть, он выйдет из оцепенения». Я никогда не считала секс антибиотиком широкого спектра действия. Но послушалась психиатра, чтобы он знал, что я делаю все от меня зависящее. Я из приморского края, мы тут все очень чувствительны к чужому мнению. Что скажут люди? Что скажет психиатр, если я не куплю красное кружевное белье и не оседлаю Йошко? Не знаю, кого призвать к ответу за то, что красное кружевное секси-белье сделано из синтетики, которая у всех женщин вызывает отвратительный зуд и выделения? Может быть, потому, что все модные модельеры — злобные педики? Или синтетика жестче и поэтому лучше держит дряблые задницы? Я оседлала Йошко, как шлюха, без приглашения ввалившаяся в комнату, и сунула его между своими раздвинутыми старыми бедрами, как клиента, у которого безнадежные проблемы с эрекцией и которому на это плевать. Миссия невыполнима, но я послушалась доктора. Все-таки речь идет о том, чтобы заинтересовать еблей больного, который отказывается от лекарства. Но не еби больного, который не желает принимать терапию еблей! Я старалась как могла, лифчик у меня был тесный, с минимальными чашечками, на мне были стринги, от них болела задница. «Размера XXL у нас никогда не было, девушка, у нас есть сейчас только новогодняя модель, вот эта, красная», — сказала мне злобная продавщица, метр восемьдесят, пятьдесят килограммов, подчеркнув это «девушка». «О’кей, — сказала я, — возьму новогодние, подарок дочери на день рождения».