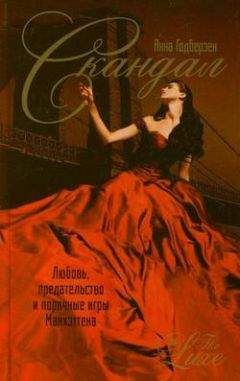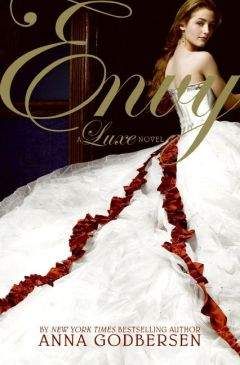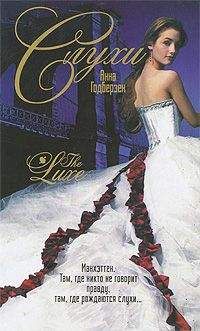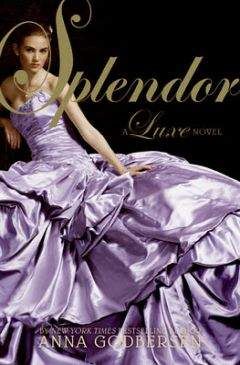– Тебя не было так долго, – тихо сказал Вилл и печально покачал головой.
Элизабет постаралась отогнать странное наваждение, вызванное материнскими словами, но это оказалось непросто.
– Сегодня я стоял на улице и ждал, когда закончится бал. Я понятия не имел, что ты там делаешь, с кем танцуешь, кто прикасается к тебе, кто… – Вилл посмотрел прямо на нее и не мог больше вымолвить ни слова.
Одна из лошадей зашевелилась, переступая копытами по сену, и мягко заржала.
– Вилл, пойми: я не могла не поехать па бал, – Она беспомощно заморгала, пытаясь не разреветься. Она не понимала, почему они спорят из-за вещей, которые она не могла изменить, которые от нее не зависели. Тем более они так давно не виделись! В конце концов, разве она не рисковала, пробираясь к нему темной ночью? Разве не мог он просто любить ее здесь и сейчас, пока им позволяет время?
– Я здесь, Вилл. Посмотри на меня, я здесь, – сказала она мягко, шагая вперед. – И я люблю тебя…
Она улыбалась сквозь слезы и чувствовала, что лишь эти слова сейчас имеют для нее значение.
– Я все представлял себе, как ты там, внутри, танцуешь с разными мужчинами, – Вилл стиснул деревянную перекладину сеновала и затем продолжил: – Эти Генри Шунмейкеры в костюмах за сотню долларов и с огромными шикарными особняками…
Элизабет дошла до лестницы и поднялась на две ступени. Грубые деревянные перекладины царапали ее изнеженные холеные руки, но сейчас она об этом не думала. Девушка не отрывала глаз от Вилла и появляющейся на его губах улыбки.
– Генри Шунмейкер? Этот самовлюбленный вздорный тип? Ты, должно быть, шутишь, – она не смогла удержаться от смеха, похожего на чистый звон колокольчика.
Она желала сейчас лишь одного: обнять Вилла, прижаться к нему, успокоить его. Как ей хотелось, чтобы он верил ей! Элизабет не помнила точно, когда ее детская привязанность переросла во взрослую любовь, но то, что толкнуло ее к Виллу, до сих пор жило в ней. Она никогда не встречала никого, кто был бы лучше и достойнее Вилла. Он был добрым, живым, настоящим. Иногда его благочестивость переходила разумные границы, но Элизабет знала, как его отвлечь. Она посмотрела на него, обессилевшего от тревог и волнений, и поняла, что оп уже почти перестал сердиться.
Вилл опустил глаза и снова заправил волосы за уши. Затем приподнял голову и посмотрел на Элизабет долгим пристальным взглядом.
– Лиззи, ты надо мной смеешься?
– Нисколько, – тихо ответила она, поднимаясь еще на одну перекладину.
Вилл встал и, поскрипывая поношенными кожаными ботинками, подошел к лестнице. Он наклонился и подтянул девушку к себе, так, что она оказалась в его объятиях. От него пахло лошадьми, потом и дешевым мылом – запах, который она знала и любила.
– Я так счастлив, что ты вернулась, – прошептал он, уткнувшись ей в шею.
Элизабет закрыла глаза и ничего не ответила. Эти моменты были столь редкими, такими волшебными и хрупкими… Раньше она и не подозревала, как тосковала по ним.
– Как прошел вечер? – спросил Вилл низким голосом, опуская девушку на мягкий деревянный пол, – Чинно или весело?
Она спрятала лицо у него на груди и попыталась вспомнить бал, но в памяти всплыли одни лишь угрожающие слова матери, ее странные поступки и пронзительные взгляды, которыми та в изобилии одаривала дочь. Элизабет помолчала и, наконец, ответила:
– Скучно.
Нежно улыбнувшись, она посмотрела на крупные красивые черты его лица. В эти минуты ей отчаянно хотелось стереть из памяти тот вечер, забыть, кем она была, забыть все навязанные ей роли и обязательства. Она пришла сюда по собственному желанию, поступившись своими принципами и рискуя быть замеченной, чтобы несколько часов провести рядом с ним.
– Я все время думала о тебе. Давай мы больше никогда не будем говорить об этих дурацких вечеринках!
Он улыбнулся и бережно уложил ее на пружинный матрац, расположенный в углу сеновала, под деревянными балками, на которых сушилась одежда. Элизабет развязала кимоно. Вилл наклонился, держа ее лицо в своих больших ладонях и покрывая легкими поцелуями.
– Думаю, вы действительно любите меня, мисс Холланд, – прошептал он.
Нежные лучи рассветного солнца пробивались сквозь маленькое окошко. Пьянящее чувство блаженства разливалось по всему телу Элизабет, но где-то внутри ее терзала мысль о том, что она ведет себя неподобающе. Она уже так давно не спала в собственной постели, а уже утро, и если кто-нибудь обнаружит ее отсутствие…
– О чем ты думаешь? – прошептал Вилл, приподнимаясь на локоть.
– Ненавижу этот вопрос, – ответила она, потому что вновь думала о предостережении матери и о том, что пробуждение в теплых объятиях Вилла было так непохоже на ее привычную осторожность. Она села и выглянула из окошка в сад.
– Мне нужно идти, – она и сама слышала неуверенность в собственном голосе.
– Почему? – Рука Вилла скользнула под кимоно и устроилась на ее груди.
Ее сердце билось под его ладонью, и она вдруг поняла, как же бешено оно колотится. Каждое мгновение, проведенное здесь, заставляло ее все сильнее беспокоиться о том, что происходило в доме. Лина, должно быть, скоро придет с горячим шоколадом и ледяной водой и обнаружит пустую кровать. Элизабет заставила себя быстро поцеловать Вилла в мягкие губы и вырвалась из его крепких объятий.
– Ты знаешь почему, – Она решительно встала и начала завязывать одежду. Посмотрела на беспокоившихся лошадей в стойлах внизу и попыталась выглядеть так, словно все делала правильно, – Если мама узнает, что я пришла сюда, – если вообще кто-нибудь узнает, – это будет конец.
– Но если мы уедем в Монтану… или Калифорнию… Никому не будет до нас дела. Никто не сможет нам ничего запрещать, мы будем свободны. Мы сможем оставаться в постели нее утро, – произнес он все более теплым и настойчивым голосом, становившимся все теплее и настойчивее– И потом, когда проснемся, сможем кататься на лошадях или делать то, что захотим, и…
Элизабет уже много раз слышала эти слова, и она поняла, что в ее отсутствие он не переставал об этом думать и настроен решительно. Ей нравилось, когда он так говорил. Вилл был единственным мужчиной из всех, кого она знала, который всерьез задумывался о будущем и прилагал усилия, чтобы сделать это будущее прекрасным и достойным. Вилл был самым нежным, прекрасным, но в то же время самым пугающим и требовательным человеком из всех. Жить где-нибудь далеко от Нью-Йорка, где они могли бы быть просто мужчиной и женщиной, – это самое прекрасное, что она только могла себе вообразить. Самая чудесная и самая недостижимая мечта. Им бы больше не надо было бояться разоблачения и страдать от этого нелепого неравенства, не было бы больше осуждения и лжи, а ей не пришлось бы тайком приходить к нему только тогда, когда все домочадцы слишком измотаны, чтобы заметить ее отсутствие.