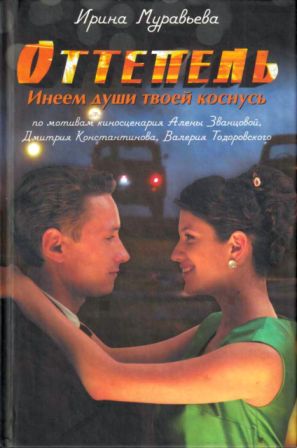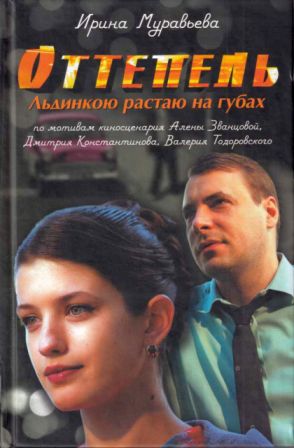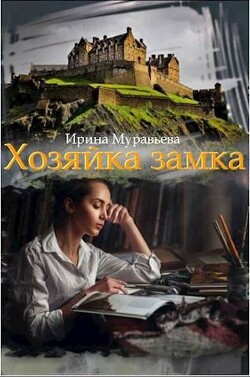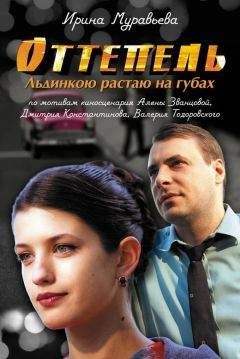тренировочный костюм прилип к его телу, хотя в комнате было совсем не жарко.
— А я, например, знаю, что я странный. И мне наплевать. Меня в школе Иисусиком дразнили. Потому что когда нам учительница начала объяснять, что Бога нет, я встал и сказал: «Докажите». Мне было одиннадцать лет.
— А она что?
— А что она? Орать начала: «Не уважает взрослых, на все наплевать, авторитетов не существует! За такие вопросы его нужно из школы выгнать, родителям сообщить!» Пока она орала, я молчал. Потом она выдохлась, и я сказал: «Вот видите? Вы не можете. И все остальные не могут. Поэтому так и злятся».
— Родителей вызвали?
— Да некого было вызывать. Мы с мамой за пару месяцев до этого похоронили отца. Он умер на моих руках, мама была на дежурстве. Она работала медсестрой в две смены, дома ее почти не бывало. Отец переводил стихи. Вернее, не совсем так: он переводил стихи, потому что за это платили деньги, а за то, что он писал сам, денег не платили, и это никогда нигде не печатали. Он был, по-моему, неплохим поэтом, но ему не везло. Он не умел писать того, что нужно. Хотя, может быть, я и не должен так говорить: его ведь могли посадить, как других, а его не посадили. Ну, подумаешь, не печатали! На фронт его не взяли, потому что у него один глаз был слепым, в детстве повредил. Всю войну он работал военным корреспондентом, его репортажи были… ну, как вам сказать? Слишком откровенными, что ли. Их тоже не всегда печатали, а отца много раз предупреждали, что он доиграется.
— О чем он писал?
— О разных вещах. О них до сих пор предпочитают умалчивать. О штрафниках, например. О разведчиках. О дезертирах. Ведь наша пропаганда работала только с лозунгами, только с героизмом. А отцу по его характеру всякая показуха и лозунги были отвратительными, непереносимыми. Он хотел правды во всем. Он ее добивался. И писал о ненужных жертвах, о жестокости, зверстве, крови и блевотине. Его картина войны очень сильно отличалась от того, что преподносили другие корреспонденты. Отец был таким… Знаете? Неутомимым правдолюбом.
— Но ведь и вы такой же, Егор.
— Я? Ну что вы, Марьяна! Я совсем не такой. Я слишком сильно люблю жизнь и слишком сильно ею дорожу. А отцу было по большому счету наплевать. Он ни себя не жалел, ни нас с мамой. Мне было восемь лет, когда закончилась война. Мы жили в Москве, в коммуналке. Мама работала круглосуточно. А у отца появилась другая женщина, и он ее, кажется, очень любил. Я о ней почти ничего не знаю. Знаю только, что она оказалась во время войны на оккупированной территории и потом ей удалось как-то добраться до Москвы. В Москве она познакомилась с отцом. Кажется, она работала машинисткой в каком-то издательстве, а о своей военной биографии никому ничего не рассказывала. Отец пришел в это издательство — он все время ходил по разным издательствам пристраивать свои переводы, иногда и стихи… По наивности. И там они познакомились. И началась эта связь. Понимаете? Отец не мог лгать. Он не мог жить двойной жизнью, ему это претило. А тут — голод, холод, ничего нет, я — маленький, все время болел. То одно, то другое: ангина, фурункулы…
— Я тоже все время болела. И тоже: ангина, фурункулы…
— Да. Многие этим болели. Еще был рахит, помните? И дистрофия. В нас вливали рыбий жир и заставляли пить аскорбинку. Отец не мог уйти. Он не мог оставить нас с матерью, хотя у него появилась любимая женщина. А она, то есть эта женщина, была, как я теперь понимаю, тоже очень сильно надорвана. Она очень боялась. Мать мне потом рассказала, что она иногда звонила нам по ночам и молчала в трубку, но это не потому, что она хотела поссорить моих родителей или вызвать у матери подозрения… Нет, совсем не поэтому!
— А почему?
— Вы правда не понимаете?
Марьяна промолчала.
— Ей незачем было дразнить мою мать. Отец и так сразу все рассказал дома. Для него это было хуже всего, если бы мать вдруг узнала о его связи не от него самого, а от кого-то еще. К этому можно по-разному относиться. Можно считать его даже не от мира сего или еще что-то в этом роде, но он был таким человеком, он родился таким, понимаете? И меняться не собирался. А эта его женщина… Она, наверное, звонила, потому что ей было страшно. Просто страшно, и все. Она боялась, что за ней придут.
— Егор! А ваша мама… Она знала, что… Ну, она знала, через что прошла эта… подруга отца?
— Да. Мать знала. Отец не сомневался в том, что должен рассказать ей даже это. Хотя он, как мне кажется, и не имел на это права. Особенно если учесть то, что, окажись на месте моей матери кто-то другой, этот другой мог бы ведь и донести. Я слышал, как однажды ночью мать спросила его: «А ты меня не боишься? Знаешь, какими стервами становятся жены, если им изменяют? Они на все, что угодно, готовы!»
— И что он ответил?
— Он ответил как-то странно. Я до сих пор не могу понять. Он сказал: «Если бы ты была одной из таких жен, у нас не было бы Егора».
Опять они помолчали. Потом Марьяна сказала, приподнявшись на локте:
— Егор, подождите! Я, кажется, догадываюсь. У нас была соседка в Свердловске, очень верующая, очень хорошая. И красивая. И она как-то сказала: «Дети не просто так появляются. Дети — это подарок Божий. Но не все это понимают. От подарков не отказываются». Я вот и подумала сейчас, что, может быть, ваш отец хотел сказать вашей матери, что люди не имеют права делать подлости, потому что… Ну, потому, что у них есть дети. Я не могу это объяснить. Но я так чувствую…
— Не знаю. Никто ведь и в самом деле не способен доказать, что нет Бога, правда? Короче, моим родителям было очень трудно. И порознь трудно, и вместе. Отец начал потихоньку пить, хотя раньше и не притрагивался к спиртному. А у него было очень слабое сердце. И мать говорила ему, что пить ему нельзя, потому что сердце не выдержит. И мне теперь кажется, что он специально пил, чтобы оно не выдержало. Он не был слабым человеком, а наоборот. И пил, потому что был сильным. Совсем не потому, что «запутался», как