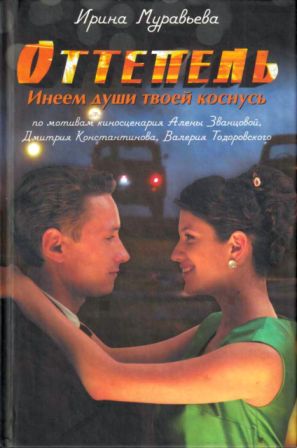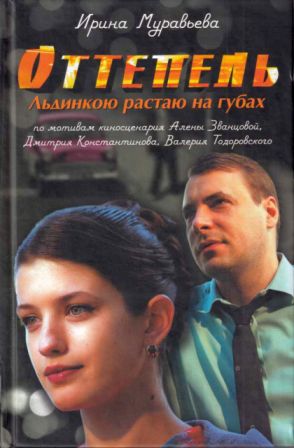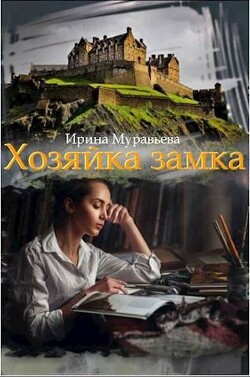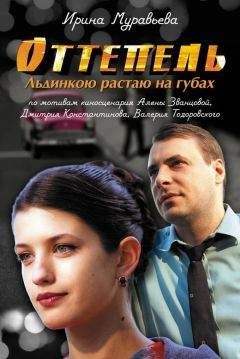это любят объяснять. А потому, что слишком четко понимал, что у него нет выхода. Он видел свою жизнь насквозь. Не хотел, чтобы его кто-то дурил и чтобы он сам себя дурил.
— Так как же он умер?
— Пришел домой и сказал: «Егорка, я простыл, наверное. Полежу немножко и потом пойдем с тобой дрова покупать, а то у нас заканчиваются». Я любил ходить с ним покупать дрова. Мы долго выбирали, стучали по поленьям, я гладил их руками, прижимался к ним лицом, нюхал. Там так замечательно пахло, на дровяном складе! Он лег и затих. Я делал уроки. Иногда оглядывался на него: он тихо лежал, сложив руки на груди, очень тихо дышал. Потом я перестал прислушиваться к его дыханию, мне показалось, что он глубоко и спокойно спит. Он не был пьян, да и вообще… Он не напивался каждый день, только иногда. Чтобы полностью отключиться, забыть обо всем. Я его понимаю.
— Я тоже его понимаю, — прошептала Марьяна.
— Да? — отозвался Мячин. — Ну, видите? Вы же необыкновенная. Я ведь вас не просто так полюбил на всю жизнь.
— Не нужно об этом. Пожалуйста…
— Конечно, не нужно! Я закончил делать уроки. На улице было уже совсем темно. Поздно идти за дровами. Я подошел к дивану, на котором он лежал. Его лицо было каким-то поразительно белым. Он странно закинул голову. Я успел подумать, что ему, наверное, очень неудобно спать в таком положении, и хотел слегка поправить подушку. Дотронулся до его лба. Он был ледяным. Я ничего не понял. Начал тормошить его, звать. Но он был уже мертвым.
Они оба молчали. Потом Мячин сказал:
— Мама после похорон решила уехать из Москвы. Она мне сказала, что не хочет жить в одном городе с этой дрянью, которая виновата в его смерти. Она со мной всем делилась, никогда не держала никаких секретов от меня. Не знаю… Может быть, этого и не нужно детям. Может быть, от всех этих взрослых страстей и переживаний, которые валились на мою голову, я и стал таким психопатом.
— Вы совсем не психопат, Егор! — горячо возразила она. — Вы просто очень глубоко чувствуете… Это совсем другое…
— Ну, не знаю. Дай Бог, чтобы вы оказались правы. Короче, мы уехали в Брянск. У мамы там жили две сестры, обе с семьями, старший брат. Она была уверена, что мне будет хорошо с родными, в семье, потому что в Москве у нас никаких родных не было.
— И вам было хорошо в Брянске?
— Ой, нет! Я рвался в Москву и скучал по Москве. Поэтому, как окончил школу, так сразу поехал поступать во ВГИК. Мама была уверена, что меня не примут. Но меня вдруг приняли. Я сам не сразу в это поверил.
— А как ваша мама сейчас? Она живет в Брянске?
— Живет, да. Работает. Старается меня ничем не волновать, пишет веселые спокойные письма. Я вижу ее раз в год. Она быстро стареет. Дело в том, что она вообще очень сильно изменилась после смерти отца. Я был ребенком и то сразу заметил, что она стала другой.
— А так бывает, да? Что человек вдруг полностью меняется? Не слегка, а именно полностью? — Голос Марьяны дрогнул.
— Бывает, конечно. Вы вот посмотрите на артистов: в жизни это может быть тихий, затравленный человек, глаз не поднимет. А выходит на сцену и преображается. Гром и молнии! Так же и с обычными людьми. Только нужен какой-то шок, чтобы вдруг измениться. Или, может, сила воли. Мама сначала, я думаю, ужасно растерялась: одна, с мальчишкой. А за плечами эта отцовская измена, боль эта, его неожиданная смерть. Да и я был первое время сам на себя на похож. И вдруг она в один день собралась как-то внутренне, замкнулась, сжалась и начала действовать. Ей нужно было принять жизнь такой, какая она есть. Ни на что не надеяться, не ждать больше никаких чудес. Она с этим справилась. По крайней мере внешне.
— Ах, как я ее понимаю! — воскликнула Марьяна.
Мячину хотелось увидеть ее лицо, посмотреть в ее глаза. Но вместо лица он увидел только подушку, в которую она зарылась, и смутно белеющий в темноте локоть.
— Очень тебе плохо сейчас? — тихо спросил он.
— Очень, — ответила она. — Да, мне очень плохо.
— Ты только не бойся, — неловко сказал он. — Я тебя не подведу. Приставать не буду. Ну, и вообще… Все сделаю, как ты скажешь.
Она усмехнулась.
— Я знаю, Егор.
Мячин промолчал. От ее уверенного «я знаю» в нем вдруг поднялось глухое раздражение. Он только что раскрыл ей всю душу, рассказал даже то, чего не рассказывал никому, а она отмалчивается, ничем не делится, и, может быть, есть даже какой-то расчет в том, что она пришла к нему, как будто бы он не мужик, не мужчина, а подружка или соседка и можно не считаться с его переживаниями. Он вспомнил коврик, в детстве висевший над его кроватью. На коврике серый волк с оскаленным добрым лицом мчится куда-то, и шелковый красный язык его задевает за верхушки сине-серых елок, а на спине волка, перекинутая через его мощную и надежную спину, лежит красавица-царевна с полураспустившейся косой. Марьяне сейчас нужен вот такой серый волк, поэтому она процокала к нему каблучками, и ей даже в голову не приходит, что Мячин ведь не игрушка и нельзя совершенно не считаться ни с ним, ни с его любовью к ней, ни с его, черт возьми, страстью, от которой иногда хочется просто лезть на стену! Мячин с трудом удержался, чтобы не сорваться и не спросить у нее, сколько ночей она собирается провести с ним в этой комнате на глазах у всей группы, которая, разумеется, даже и представить себе не может, что он вот валяется на тюфяке, как собака, а она устроилась на его кровати и вздыхает оттого, что Хрусталев ее бросил.
— Егор! — прошептала она тем мерцающим, похожим на первый подснежник, глуховатым голосом, за который он с первой минуты полюбил ее. — Егор, ты прости меня, пожалуйста, я просто ужасно… Ужасно запуталась!
И тут же в душе у него потеплело.
— Ты не одна, — пробормотал он. — Я ведь с тобой…
— Спасибо, — шепнула она. — Доброй ночи.
И ночь наступила. Такая спокойная, в таких крупных звездах, с таким нежным плеском серебряных рыб в неглубокой реке, которые с помощью легких касаний, смеясь, сообщали друг другу, что живы, что им удалось ускользнуть от крючка и нужно теперь затаиться, не жадничать, чтобы не попасться на