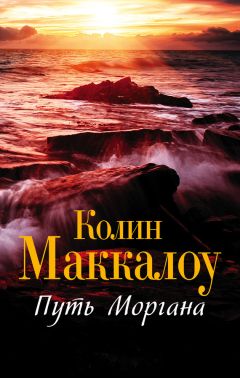Дэн был разочарован.
– Я думал, вы наденете красную сутану! – сказал он.
– Иногда я ее надеваю, Дэн, но только если служу мессу у себя во дворце. А когда я не в Ватикане, надеваю черную сутану и только препоясываюсь красным, вот как сейчас.
– У вас там и правда дворец?
– Да.
– И там всюду зажигают свечи?
– Да, но ведь их и в Дрохеде зажигают.
– Ну, в Дрохеде… – недовольно повторил Дэн. – Уж конечно, нашим до тех далеко. Вот бы мне увидать ваш дворец и вас в красной сутане.
Кардинал де Брикассар улыбнулся:
– Как знать, Дэн, может быть, когда-нибудь и увидишь.
Странное выражение затаилось в глазах у этого мальчика, словно он всегда смотрит откуда-то издалека. Оборачиваясь к слушателям во время мессы, Ральф заметил – это странное выражение стало еще явственнее, но не узнал его, только почувствовал что-то очень знакомое. Ни один человек на свете, будь то мужчина или женщина, не видит себя в зеркале таким, каков он на самом деле.
К Рождеству в Дрохеде, как, впрочем, и на каждое Рождество, ждали в гости Людвига и Энн Мюллер. Все в доме готовились отпраздновать этот день беззаботно и весело, как не бывало уже многие годы; Минни с Кэт за работой довольно немузыкально напевали, пухлое лицо миссис Смит поминутно расплывалось в улыбке, Мэгги молчаливо предоставила Дэна в распоряжение Ральфа, даже Фиа словно повеселела и не все время сидела, точно прикованная, за письменным столом. Мужчины под любым предлогом старались теперь ночевать дома, потому что вечерами, после позднего ужина, в гостиной не смолкали оживленные разговоры, и миссис Смит с удовольствием угощала на ночь глядя поджаренным хлебом с сыром, сдобными, с пылу с жару, лепешками и плюшками с изюмом. Ральф протестовал – слишком сытно его кормят, как бы не растолстеть – но за первые же три дня самый воздух Дрохеды, ее трапезы и ее обитатели преобразили его, и он уже не казался таким изможденным и измученным, каким сюда приехал.
Четвертый день выдался очень жаркий. Ральф с Дэном поехали пригнать с выгона одну из отар, Джастина мрачно укрылась одна в убежище под перечным деревом, а Мэгги прилегла отдохнуть на веранде. Ее разморило, во всем теле и на душе – блаженная легкость. Женщина может прекрасно без этого обходиться годами, но как это славно, когда с тобой – тот, единственный. В часы, когда с ней Ральф, трепетно живет все ее существо, неприкосновенна лишь та ее часть, которая принадлежит Дэну; но вот беда, когда с ней Дэн, трепетно живет все ее существо, кроме той части, что принадлежит Ральфу. И лишь когда они с ней оба сразу, вот как теперь, она поистине живет полной жизнью. Что ж, очень понятно. Дэн – ее сын, но Ральф – ее возлюбленный.
Только одна тень омрачает ее счастье – Ральф ничего не понял. И она молчит, не желая выдать тайну. Если он не видит сам, чего ради ему говорить? Чем он это заслужил? Как мог он хоть на минуту вообразить, будто она по доброй воле вернулась тогда к Люку? Нет, эта капля переполнила чашу. Не заслуживает он, чтобы она открыла ему правду, если мог так о ней подумать. В иные минуты она чувствовала на себе насмешливый взгляд матери, но в ответ смотрела в эти светлые, чуть поблекшие глаза со спокойным вызовом. Фиа понимает, она-то все понимает. Понимает, что есть во всем этом и доля ненависти, обида, желание отплатить за долгие одинокие годы. Вечно этот Ральф де Брикассар гонялся за призраками, за сияющей радугой, за луной с неба – так что же, поднести ему самый прекрасный, самый лучезарный подарок – сына? С какой стати? Пускай остается нищим. Пускай даже не знает, как горька его утрата.
Раздались телефонные звонки – условный вызов Дрохеды; Мэгги лениво прислушивалась, потом спохватилась, что матери, видно, нет поблизости, нехотя встала и подошла.
– Пожалуйста, миссис Фиону Клири, – попросил мужской голос.
Мэгги позвала ее, и Фиона взяла трубку.
– Фиона Клири у телефона, – сказала она и минуту-другую молча стояла и слушала, кровь медленно отливала от ее лица, и оно стало какое-то маленькое, беззащитное, как в те уже далекие дни после гибели Пэдди и Стюарта. – Благодарю вас, – сказала она и повесила трубку.
– Что там такое, мама?
– Фрэнка освободили. Он приезжает сегодня, сиднейским ночным почтовым. – Фиа посмотрела на часы. – Уже третий час, мне скоро надо ехать.
– Дай, я поеду с тобой, – предложила Мэгги; когда сама так счастлива, нестерпимо видеть мать огорченной, а ведь эта встреча уж наверно несет ей не только радость.
– Нет, Мэгги, я справлюсь одна. Присмотри за домом, и подождите нас с ужином.
– А ведь это замечательно, что Фрэнк возвращается как раз на Рождество, правда, мама?
– Да, – сказала Фиа, – замечательно.
Мало кто теперь ездил ночным почтовым, если можно было лететь, и когда поезд, высаживая на захолустных станциях и полустанках по нескольку пассажиров, больше все второго класса, с пыхтеньем одолел шестьсот миль от Сиднея до Джилли, в нем почти уже никого не осталось.
Начальник станции был шапочно знаком с миссис Клири, но ему и в голову не пришло бы первым с ней заговорить, он только издали смотрел, как она спустилась по деревянным ступенькам с моста, перекинутого над путями, и одиноко застыла на перроне. Не молоденькая, а элегантная, подумал он; модные платье и шляпа и туфли на высоком каблуке. Еще стройная, и морщин на лице не много для ее возраста; вот что значит богатая фермерша, легко ей живется, от легкой жизни женщины не стареют.
Потому-то и Фрэнк быстрее признал мать в лицо, чем она его, хотя сердцем она мгновенно его узнала. Фрэнку было уже пятьдесят два, и ту пору, когда миновала молодость, и почти все зрелые свои годы он провел вдали от дома. И вот он стоит под ярким джиленбоунским солнцем, очень бледный и худой, почти костлявый; волосы сильно поредели, лоб залысый; мешковатый костюм висит на сухопаром теле, в котором, несмотря на малый рост, еще угадывается сила; красивые руки с длинными пальцами стиснули поля серой фетровой шляпы. Он не сутулится и не выглядит больным, но вот стоит, беспомощно вертит в руках шляпу и, видно, не ждет, что его встретят, и не знает, что делать дальше.
Фиа, сдержанная, спокойная, быстро прошла по перрону.
– Здравствуй, Фрэнк.
Он поднял глаза, когда-то они сверкали таким живым, жарким огнем. Теперь с постаревшего лица смотрели совсем другие глаза. Погасшие, покорные, безмерно усталые. Они устремились на Фиону, и странен стал этот взгляд – страдальческий, беззащитный, полный мольбы, словно взгляд умирающего.
– Ох, Фрэнк! – Фиона обняла его, прижала голову сына к своему плечу, укачивая, как маленького. – Ну, ничего, ничего, ничего, – сказала она еще тише, еще нежнее. – Ничего.