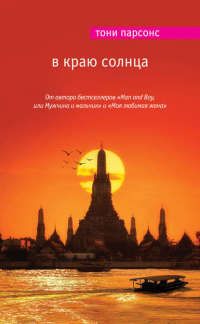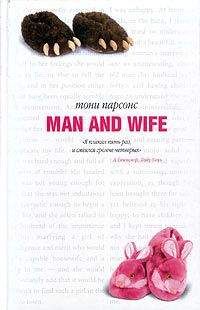Видя возмущение тайцев, я ждал, что кто–нибудь сядет в длиннохвостую лодку и догонит наглецов, однако ни один человек не сошел с берега.
— Зачем кому–то понадобилось воровать корзинки у детей? — спросила Тесс.
— Они продают их туристам на юге, — ответил господин Ботен. — Туристам, которые не умеют сами мастерить Лойкратхонг.
— Прибыльное дело, — заметила госпожа Ботен, как будто обсуждала сомнительный, но выгодный способ подзаработать.
А потом мальчик засмеялся, словно его забавляли сердитые крики тайцев. Засмеялся, подтянулся на руках и перебросил свое маленькое крепкое тело обратно в лодку. Лодка развернулась, луна осветила голову мальчика, и в волосах у него вспыхнула золотистая прядь.
Кива посмотрела на меня.
— Чатри! — взволнованно проговорила она.
— Злой мальчишка, — произнес ее брат, не сводя глаз с моря. — Когда–нибудь он за это поплатится.
— Может быть, он не такой уж и злой, — вступилась Тесс. — Может быть, он просто пытается прокормить семью.
— В конце концов такие, как он, всегда получают по заслугам, — ответил Рори.
Проехав под шлагбаумом, я поднял глаза на балкон Фэррена и увидел серую форму и темные очки тайского полицейского.
Я нажал на тормоза и так и остался сидеть на мотоцикле, не выключая двигатель и глядя на копа. Голова под шлемом взмокла от жары и страха. Я обернулся на будку охранника, как будто по выражению его лица надеялся догадаться, что происходит, но охранник уже скрылся внутри. Может быть, с Фэрреном что–то случилось, и дом кишит полицейскими по какой–нибудь совершенно невинной причине?
Коп стоял, заложив большие пальцы за пояс, и пристально смотрел на бассейн с эффектом бесконечных краев, словно пытался понять, в чем тут секрет: почему кажется, будто полотно воды висит в воздухе. Потом я заметил еще одного копа, и еще одного. Все трое глазели на бассейн и смеялись. К горлу подступила тошнота. Я тихо выругался и с усилием сглотнул, разрываясь между желанием удрать и желанием приблизиться к дому. Ни тот ни другой выбор не сулил ничего хорошего. А затем я услышал рев другого мотоцикла.
Мотоциклист затормозил, снял шлем и повернул ко мне бледное и одновременно темное лицо. Это был тот самый русский, который смотрел с нами тайский бокс. Он глянул на копов, насадил шлем на голову, потом лихо обогнул шлагбаум, не дожидаясь, пока охранник его поднимет, и умчался. Я провожал его глазами и чувствовал, как от смеси страха и выхлопных газов кружится голова.
— Том!
По грунтовке, ведущей к яхтовой пристани, трусцой бежал Джесси. Вскочив на мотоцикл позади меня, он выдохнул:
— Поехали!
Джесси махнул в ту сторону, откуда пришел, и я покатил по немощеной дороге к офису «Дикой пальмы», который притаился среди деревьев, точно бомбоубежище в джунглях. Внутри стояла тишина: обычного гула уговоров, увещеваний и обещаний слышно не было. Сотрудники совещались вполголоса. Телефоны молчали.
— Надо отсюда выбираться, — говорил Джесси, хватая со стола вещи и швыряя их в рюкзак. Вещи были все важные: паспорт, ключи, телефон, тайские баты и английские фунты. — Доедем на мотоцикле до конца дороги, а там через пристань.
Он закинул рюкзак на спину.
— Мы ведь не делаем ничего незаконного, правда? — спросил я.
Джесси метнул на меня взгляд, в котором читалось: «Сам знаешь, что делаем».
— Пошли, — бросил он.
Мы поспешили к двери. На ходу я достал телефон, ощущая острую потребность поговорить с Тесс. На экране уже высветилось слово «ДОМ», когда в дверь вошли полицейские. Я услышал, как жена назвала меня по имени — сначала спокойно, потом вопросительно, — а затем связь оборвалась.
Не повышая голоса, полицейские выстраивали сотрудников «Дикой пальмы» вдоль стены. Ни к кому не прикасались — только один коп осторожно взял Джесси за локоть. Сначала я подумал, что его удивила мертвенная бледность моего друга, затем понял, что он смотрит на трое наручных часов, установленных на разные временные зоны.
Всех копов это ужасно развеселило.
Когда полицейский фургон подъехал к Пхукетской тюрьме, сквозь зарешеченные окна я увидел написанное по–тайски название. Перевести его на английский не сочли нужным, и, глядя на таинственные буквы, я как никогда чувствовал себя большим неуклюжим фарангом. В глубине живота прочно засело противное сосущее чувство.
Сотрудников «Дикой пальмы», с которыми меня везли, я не знал. Мы сидели в кузове маленького фургона под присмотром одного копа — такого молодого и прыщавого, что он мог бы легко сойти за подростка. Никто не разговаривал. Все были в наручниках и очень напуганы. Австралиец. Пара американцев. Светловолосая новозеландка, глотающая беззвучные слезы.
Фургон проехал сначала в одни ворота, потом в другие и оказался во внутреннем дворе тюрьмы. В переднем кармане джинсов, плотно прижатый к бедру, долго вибрировал и наконец затих телефон. Я не мог его достать и испытывал какое–то постыдное облегчение, потому что знал: это Тесс, а у меня не было слов, чтобы все ей объяснить. Слезы обожгли глаза — я их сморгнул. Фургон остановился, и нас вывели наружу.
Во дворе стояла очередь из женщин в коричневой тюремной форме. Все местные, босоногие, удивительно жизнерадостные. Одна из них улыбнулась, рассмеялась и бросила на меня такой взгляд, каким смотрят на клиентов девушки в барах. Профессиональный взгляд, полный призыва и желания, настолько убедительный, что от настоящего его отличает одно: в любой миг женщина может его потушить или переключить на другой объект. Некоторые заключенные носили кандалы. Некоторые вообще были не женщинами, а мужчинами, арестованными между двумя операциями по смене пола.
— Катои, — сказал австралиец. — Второй вид женщин.
Потом он заметил, что некоторые из заключенных кашляют, и разразился бранью:
— Мать твою! Туберкулез! Их проверяют на туберкулез! В этой сраной тюрьме эпидемия!
Я с трудом сглотнул и попытался следить за дыханием. Медленно вдыхаем через нос, заполняем легкие воздухом, медленно выдыхаем через рот. Еще раз. И еще. И еще. Жалкая попытка контролировать хоть что–то в мире, где все вышло из–под контроля.
Нас выстроили в неровные шеренги. Фэррен хмурился, мрачный как туча. Пирин с вызывающим видом стоял рядом с ним. Джесси был бледнее обыкновенного и явно страдал от жары. После темного фургона солнце слепило глаза. Кто–то окликал нас по–английски — заключенные–европейцы.
Копы пробормотали что–то по–тайски и повели нас в главное здание, словно группу экскурсантов в наручниках. Глаза постепенно привыкли к свету. Кожа горела, хотя мы провели во дворе всего несколько минут.