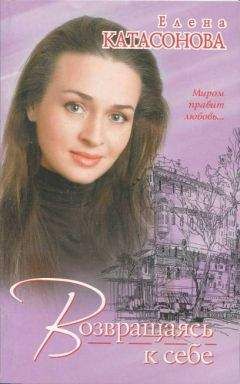— Да, конечно.
— Так двигай дальше — вперед и выше! Но лучше — ниже.
— Долго думал? — укоризненно смотрит на него Дима.
— Совсем не думал, — кается Костя. — Прости, старик: дурацкая шутка.
— Почитать, что я написал вчера? — не слушает его Дима. — Еще не отделано — так, черновое.
Он явно волнуется.
— Давай! — охотно соглашается Костя.
— Начало смятое, буду еще работать, конца пока нет. Но есть середина:
И заломив запястья тонкие,
Слегка раскачивая стан,
Из глаз туманных искры звонкие
Роняешь в пьяный океан.
И вижу: пепельными змеями
Разметена твоя коса…
Так в ураган летят над реями
Разорванные паруса.
— Здорово, — одобряет Костя. — Но ведь у Лены, кажется, нет кос?
— О боги, — горестно закатывает татарские глаза Дима. — Это поэзия, а не калька с действительности, дубовая твоя голова! Так я вижу Лену, и даже не ее, а…
— Прекрасную даму, — не без ехидства подсказывает Костя. — Ты, случайно, не подражаешь Блоку?
— Не знаю, — задумывается Дима. — Сознательно — нет. Но иногда мне самому кажется, что я как-то близок к этой блестящей плеяде, к знаменитому Серебряному веку.
— А к городскому сочинению ты готовишься? — вдруг спрашивает Костя.
Дима вскакивает как ужаленный.
— И ты туда же! Уж напишу как-нибудь, пропади оно пропадом!
Неожиданно отворяется дверь и возникает Иван Николаевич, отец Кости.
— О чем шумим? — любопытствует он, наливая себе воды в стакан.
— У него, пап, седьмого городская контрольная, — объясняет Костя, — а он все пишет стихи.
— Надо бы оторваться, — добродушно басит Иван Николаевич. — Хотя бы на время. Сдашь экзамены, а потом…
— А потом — вступительные в вуз! — возмущается несправедливостью бытия Дима.
— Ничего не поделаешь, такая у вас пора — юность, — сочувствует Иван Николаевич, но губы морщит улыбка. — Все сразу: школа, вуз, выбор профессии, а тут еще всякие любовные страсти.
Он весело подмигивает ребятам.
— Да-а-а, — с завистью тянет Дима. — Вам-то хорошо: у вас все в прошлом.
— Так уж и все? — вскидывает бровь Иван Николаевич. — Не скажи… Ну, ладно, отправимся восвояси: кончилась небось идиотская эта реклама.
Залпом выпивает он еще стакан воды и возвращается к телевизору. Дима смотрит на закрывающуюся дверь невидящим взглядом.
— Ты чего? — спрашивает Костя.
— Концовка пришла.
— Какая концовка? Куда пришла?
— Концовка стиха. А пришла, естественно, в голову.
— Читай! — распоряжается Костя.
И вместо счастья будет бешеный
Порыв безумия души…
Как погребения повешенный,
Я жду тебя в людской глуши.
— Эко хватил! — не одобряет концовки Костя. — Уж и «повешенный»… Не очень-то поэтично.
— Что бы ты понимал! — вспыхивает Дима и, отшвырнув от себя стул, начинает бегать по кухне, стукаясь об углы. — Это же не стихи какой-нибудь графини Ростопчиной.
— По-моему, она была княгиней, — думает вслух Костя. — «Какой-нибудь»… Скажешь тоже…
— Какая разница! Графиня, княгиня… Короче, это не салонная лирика.
— Сдаюсь, сдаюсь, — поднимает руки Костя. — А о моем предложении все-таки ты подумай.
— О каком предложении? — непонимающе хмурит густые брови Дима.
— «Уж эти мне поэты», как говаривал Евгений Онегин. Живешь в мире грез, а реальная жизнь…
— Выражайтесь яснее, — подражая Геннадьевичу, велит Дима.
— Я говорю о хате, — терпеливо напоминает Костя. — И, повторяю, мужчина должен сделать первый шаг, понял?
В черных глазах Димы самый настоящий страх.
— Слышь, я боюсь, — признается он. — Наверное, я дурак, но мне страшно.
— Чего? — шипит возмущенный Костя.
— Ну, это… Вдруг у меня не получится?
Дима нервно хихикает.
— Ну-у-у, — не находит подходящих к случаю слов Костя.
— Нет, ты ничего такого не думай, — торопится Дима. — У меня все в порядке, но Лена…
— Понятно, — рубит воздух рукой эксперт Костя. — Но, знаешь, не войдя в воду, не научишься плавать, так?
— Так.
— Следовательно, нужно решиться. А то, гляди, разовьется какой-нибудь комплекс.
— Ты только меня не пугай! — самолюбиво вспыхивает Дима.
— Нас всех без конца пугают, — хмыкает Костя. — «Имфаза, имфаза…»
— Так это для стариков.
— И выкачивание денег из бедняг-импотентов.
С бессердечностью молодости оба хохочут и не собираются объяснять родителям Кости, когда те приходят пить чай, что их так рассмешило.
Теплый, душистый апрель пролетел, как всегда, мгновенно. Начало мая было традиционно холодным и сумрачным. По небу лениво ползли серые, мрачные тучи, то и дело срываясь ледяным внезапным дождем. Прохожие, съежившись, короткими перебежками пробегали открытые пространства и, торопливо сложив мокрые зонтики, ныряли в спасительное метро. Московские власти сразу после праздников безжалостно выключили батареи, по районам с садистской неторопливостью отключали горячую воду, садоводов пугали возможными ночными заморозками. Вся Москва чихала и кашляла: по городу катился очередной грипп.
Болела Наталья Петровна, болела, заразившись, от нее, Лена, в лежку лежала вся семья Кости — заразу принес в дом общительный Иван Николаевич; у Димы пока держались — в основном благодаря чесноку.
— Так пахнет же! — бессильно возмущался Дима, отбрыкиваясь от очередной дольки.
— Не важно! — сурово говорил отец. — За щеку — и в метро! У самой школы выплюнешь и закусишь «тик-таком».
— Все равно остается, — чуть не плакал Дима. — И во рту противно.
— Экзамены сдавать надо? — задавал риторический вопрос отец и сам на него отвечал. — Надо! Учиться — не целоваться. Вызовут к доске — дыши в сторону. Сам говоришь, что не ходит полкласса.
— Мама! — взывал Дима в отчаянной надежде к главному в доме авторитету.
— Отец прав, — коротко отвечала мать.
Приходилось смиряться, хотя за порогом чеснок, конечно, выплевывался. Однако дело уже было сделано, и вирусы к Диме не приставали.
Одна из лучших школ Москвы бешено, в беспощадном темпе готовила своих питомцев к экзаменам. Сбив температуру, пошатываясь от слабости, глотая всяко разные витамины, приползали в класс отболевшие, и, глядя на их изнеможенные, бледные лица, Дима начинал думать, что непреклонный отец, возможно, и прав.
— Как ты себя чувствуешь? — звонил он Лене.