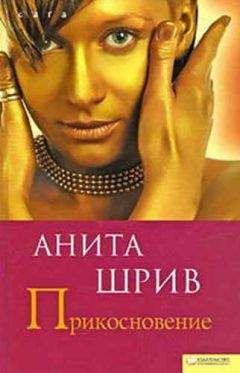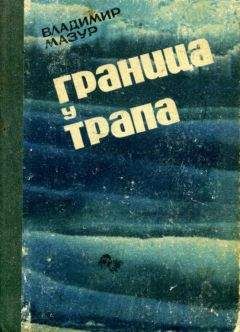Она вышла из магазина, как никогда чувствуя себя женщиной средних лет, одетой в плащ, несмотря на жару. Мужчины не оборачивались ей вслед, словно их запрограммировали. Между тем Винсент — ее обожатель, ее любимый — даже в то утро, когда умер, сказал о ней:
— Ты такая красивая.
— Мне уже пятьдесят. Никто не может быть красив в пятьдесят лет.
— Ты меня поражаешь. Ты совершенно не права.
Удивительно, как хочется, чтобы тебя называли красивой, какое удовольствие может доставить это единственное слово. Она увидела пару в дорогой одежде; они спорили на ходу. У него были светлые волосы и борода, и он двигался чуть впереди своей жены, пока она, сердито жестикулируя, говорила:
— Не могу поверить, что ты такое сказал.
Он держал руки в карманах и не отвечал ей. «Своим молчанием он выиграет этот спор», — подумала Линда.
Она остановилась перед зданием из потемневшего камня с готическими шпилями — она полагала, что никогда не сможет смотреть на католическую церковь просто как на здание. Церковь манила своей подлинностью, окруженная неумеренным количеством модных бутиков. (А разве не были свидетельством неумеренности сами шпили?) Линда вошла в притвор, где пахло затхлостью, и вспомнила, как в детстве отказывалась верить, что это результат плесени и пыли, убежденная, что несколько пугающий ее запах исходит от святой воды в купели. Смущенная тем, что прервала мессу (Линда считала, что по субботам в церкви только исповедуются), она тихо прошла к скамьям, не преклоняя коленей, не крестясь, хотя по привычке ей хотелось этого.
Прохладный воздух церкви охладил испарину на ее шее. Она позволила плащу соскользнуть с плеч, довольная тем, что у нее нет с собой шуршащих пакетов, способных своим шумом нарушить тишину. Линда не была в церкви уже несколько лет, поэтому слушала литургию с внутренним трепетом и восторгом. И когда она слушала ее, в голову пришла поразительная мысль: ее собственная поэзия перекликается с этими мелодичными оборотами! Как же она не замечала этого раньше? Как еще кто-то, какой-нибудь критик, не отметил этого? Похожие ритмы нельзя было не заметить. Открытие ошеломило ее, как извлеченное на свет Божий письмо, объясняющее твое происхождение.
Перед ней безудержно плакала пожилая женщина (какое горе или грех могли вызвать такие слезы?), но Линда не видела лиц других прихожан, сидевших через десять или больше скамей. Она произнесла короткую молитву за Маркуса, который нуждался в этом больше всех. Закончив, она взглянула вверх на потемневшее грязное стекло (так мало солнечного света попадало в костел, стоящий среди высоких зданий!), поискав глазами образ Марии Магдалины. Она увидела Иоанна Крестителя и картину с изображением Тайной вечери, но женщину, которую искала, не нашла.
«Она служила Ему всем своим естеством».
Потом, как она почти всегда делала в церкви раньше, Линда позволила своим мыслям куда-то уплыть. И, уплывая разумом, она увидела образы. Когда она была девочкой, эти образы начинались с картины вишневого дерева на заднем дворе, затем трансформировались в вишневую кока-колу, а потом каким-то образом переходили в колено и ногу мальчика в кожаной куртке, которого встретила однажды в кафе, — он заказывал вишневую кока-колу. Но в этот день она мысленно видела лица (Винсента и Томаса), затем смятую постель (ее и Винсента в тот день, когда он умер), аккуратный пакет выстиранного белья из прачечной Бельмонта, который несколько месяцев лежал на стуле в ее спальне нераспечатанным. Каждый образ вел к другому, словно по тонкой нити, невидимой нити, и соединения были гибкими и запутанными. Одни образы беспокоили ее, другие были приятными — свидетельства прожитой жизни, хотя некоторые воспоминания говорили о ее глупости, ужасной наивности.
Но прежде чем она успела это осознать, среди других выплыл еще один образ — непрошеный и нежеланный, и она тут же попыталась отогнать его. Линда чувствовала, что он тянет ее вниз, но какое-то мгновение не могла от него оторваться. Она услышала приглушенный звук — слово? Нет, скорее тяжелое дыхание или шепот, губы мужчины, прижатые к ее плечу, его тяжесть на ее бедре. Он сделал себе больно, или это было (что вероятнее) еще одно «высказывание» на этом новом языке, которому он учил ее, на этом странном наречии без слов, но, тем не менее, казавшемся исполненным смысла — полным потребности, мольбы и огромной безмолвной благодарности?
Ее бледно-голубое платье сушило кожу и плавало, как телесная ткань, над полостью живота. Солнечный свет лежал на тахте и на ее лице. Было десять или десять тридцать утра.
Щетина его короткой бороды была колючей, как иглы чертополоха, растущего на пустыре в конце квартала. После первого раза, словно ошеломленная полуденным солнцем, она осмотрела себя в зеркале и увидела блестящее розовое пятно: его борода натерла тонкую кожу у основания ключицы, и это болезненное ощущение в сочетании с другим напоминало ей о той пугающей вещи, которая с ней произошла. Но она не боялась. Не боялась этого мужчину, который казался если не совсем подходящим, то и не тем, кто мог занять все ее мысли; не боялась самого события, которому позволила случиться четыре раза. Что-то внутри нее даже приветствовало эти знаки внимания, было даже почти радо им.
Затем она услышала еще одно «не-слово», такое же точное в своем значении. Теперь он, охваченный желанием, был у ее груди и уже возился с пуговицами ее платья, раздвигал ткань. Он приник ртом к ее груди; это было чем-то новым и постоянно меняющимся. Его лица она не видела и видеть не хотела — зажмуренные глаза, шею в морщинах, въевшуюся в них грязь.
Ее тело ослабло, в животе что-то трепетало. Между ног было влажно (эта часть ее тела была особенно полная). Сосание напоминало истечение кровью, подумала она, и ей вспомнились накрытые стеклянными банками пиявки на спине женщины и оставленные стеклом идеально округлые следы. Он рывком передвинулся выше и какое-то мгновение боролся с ее юбкой. Потом всунул в нее палец, затем два и теперь очень торопился, был почти вне себя. Ей подумалось, не похоже ли это на то, как если бы он водил пальцем в горлышке узкой скользкой банки. Ноготь зацепил кожу, и она вздрогнула, но он, кажется, не заметил этого. А теперь это был уже не палец, а нечто другое (она никогда не произносила этого слова вслух), и она поняла, что скоро все закончится.
Она вытянула шею, чтобы посмотреть в окно в изголовье тахты. На крыше соседнего дома неподвижно сидела большая птица. Мужчина закончил, как всегда конвульсивно содрогнувшись и слегка икнув. И когда он отстранился, она почувствовала, как из нее сочится влага, небольшое количество жидкости вытекло на бедро. Она смотрела на него, сидевшего на краю кровати, на его бледное потрясенное лицо. Потом он застегнул змейку брюк и завязал шнурки.