Ознакомительная версия.
– Держись! – прокричал Краснин и снова прижал меня к себе, когда нос палубы начал задираться вверх
– Все! – прокричала я в ответ. – Я отстрелялась, можем возвращаться!
– Ты аферистка! – рассмеялся Краснин.
– Есть немного, – заражаясь его весельем, смеялась я в ответ.
Тем же способом – хватаясь за поручни и канаты – мы добрались назад. Ввалились в помещение, смеясь от возбуждения, стряхивали с волос и лица капли воды, снимали куртки, развешивали их на стульях, чтоб стекли немного, и все это в каком-то бесшабашном настроении от собственной не то глупости, не то невеликой смелости – не героический же подвиг совершили, а так, баловство и мой каприз.
Но как-то очень быстро это приподнятое настроение улеглось, и мы, не сговариваясь, снова перешли на официальное фрачное «вы», словно и не было этой вылазки на палубу и нашего так совпавшего бравурного настроения.
– Идемте-ка, Павла, в столовую, чайку горячего попьем, – предложил Краснин.
Ну, чайку так чайку, дело хорошее, чтобы согреться, почему не составить компанию доценту Краснину. И чаек нам милая буфетчица сделала, и каких-то маленьких печенюшек к нему предложила и тягучего пахучего меда. Взяли все.
И расположились за небольшим столиком у окна, хотя выбор мест поражал предложением, но это мне показалось почему-то более уютным.
– Ну а как вы, Пал Андреич, стали геофизиком? – спросила я, возвращая нас в разговор-узнавание.
– Я-то как раз по семейной традиции, потомственный полярник и геофизик, – усмехнулся Краснин, отправил в рот ложечку с медом, с явным удовольствием слизал мед, прихлебнул его чаем и продолжил свою автобиографию: – Дед мой был геологом и известным полярником, дважды зимовал на дрейфующей станции «Северный полюс». Вы знаете, что первая дрейфующая станция «Северный полюс-1», известная как Папанинская, стартовала двадцать первого мая тридцать седьмого года и этот день считается Днем полярника? А в девяносто первом прошла тридцать первая экспедиция, и после нее двенадцать лет их не проводили, и только в две тысячи третьем состоялась тридцать вторая. Вообще девяностые практически угробили все, что наработал Советский Союз в Арктике. А это очень много и очень значимо. Ну, еще сами увидите и поймете. Так вот, сначала дед, за ним мой отец Андрей Васильевич стал геологом и геофизиком и, разумеется, полярником, исследователем Арктики. Два сезона подряд, когда мне было пятнадцать и шестнадцать лет, он брал меня с собой в научные экспедиции на Ямал и Таймыр. Я и так уже был увлечен и, наверное, влюблен в их дело, а проведя два лета в тундре на полевых исследованиях, окончательно пропал для других наук.
– Здорово, – впечатлилась я такой династией. – Наверное, вашему папе теперь сложно сидеть дома, когда вы вот так путешествуете?
– Он погиб, – ровно, без эмоций сказал Краснин. – В девяносто пятом году. Тогда практически никаких исследований не велось, кроме, разумеется, поиска нефтяных и газовых месторождений, чем он и занимался в то время. Но финансировали все это фигово, оборудованием пользовались старым, раздолбанным. Один из участников экспедиции, студент, плохо закрепил стойки бура, и его выкинуло с огромной силой, когда они натолкнулись на газовый карман. Отец успел парня оттолкнуть, сообразив мгновенно, что происходит, ну а сам… не успел.
– О господи! – расстроилась я. – Простите за любопытство.
– Ничего, – посмотрел на меня Краснин, – восемнадцать лет прошло. Риски в нашей профессии достаточно велики, и мы это знали, когда выбирали ее. Можно, конечно, только академической наукой заниматься, исключительно в кабинете, библиотеке и в лаборатории за добытыми кем-то образцами. Но в нашей семье это не принято. Да и неинтересно.
– А вы, значит, тоже рисковый товарищ, как и ваши папенька с дедом?
– Да вы тоже не в Большой театр прорываетесь на премьеру, а все в дикий Урал и еще более дикую Арктику, как я посмотрю, – усмехнулся он, сделав ответный «реверанс» в мой адрес.
– А вы изучаете только Арктику или и Антарктидой занимаетесь? – продолжила выспрашивать я.
Ну мне очень интересно про него узнать как можно больше, а что такого?
– Я был несколько раз и в Антарктиде, но скорее как путешественник. Я специализируюсь на изучении Арктики и распыляться не считаю правильным.
Чай мы допили и перебрались снова в кают-компанию к Ричарду, засунутому между диванных спинок. Шторм понемногу шел на убыль, это чувствовалось, но люди так и не проявляли активности, предпочтя отлеживаться в каютах. Меня лично это более чем устраивало, и вообще я тайно подозревала, что это моя фортуна штормик-то подогнала, давая мне прекрасную возможность пообщаться с господином Красниным, узнать его поближе, расспросить. И разговор наш постепенно становился более откровенным, что ли, по крайней мере он неожиданно задел очень личные моменты.
– А почему вы, Павла, стали биохимиком, если в то время уже так увлекались фотографией, что даже и в выставке принимали участие? Почему не пошли учиться этому или операторскому искусству? Почему такой странный выбор? – очень заинтересованно спросил Краснин.
Почему? И я сразу же переместилась мысленно в прошлое.
По трем веским причинам. Глория. Разговор мамы с подругой. И мой характер.
Моя сестра Глория – совершенно уникальная личность. И это мягко говоря.
До двенадцати лет она была почти обыкновенной девочкой. Почти – это в том смысле, что необыкновенной – она родилась красавицей и была ею по жизни со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. То есть в садике Глория – самая любимая абсолютно всеми, и взрослыми, и детьми, девочка и, соответственно, балуемая, и все ей прощалось, и большая часть внимания принадлежала только ей. В нее влюблены все мальчики детского сада от младшей группы до старшей. Та же история продолжилась и в школе, но в еще более тяжелой форме – все мальчики само собой, но и преподаватели обоих полов, видя ее, начинали улыбаться и таяли, как масло под солнцем. Она могла из них макраме плести и узелками завязывать.
Но Глория такой своей властью практически не пользовалась. Во-первых, она считала это чем-то естественным и принимала как само собой разумеющееся, ну, как дышать, например, а во-вторых, почему-то предпочитала без поблажек хорошо учиться.
Но это все были цветочки. Вернее – бутончики!
В двенадцать лет непонятно каким образом и откуда на нее снизошла такая житейская мудрость, словно она получила некие тайные знания про людей и их сокровенные желания, помыслы и причины, заставляющие их поступать так или иначе. Это была фантастика, порой мне, тогда девяти-десятилетней девочке, казалось, что по разуму Глория – взрослая тетка лет тридцати.
Ознакомительная версия.

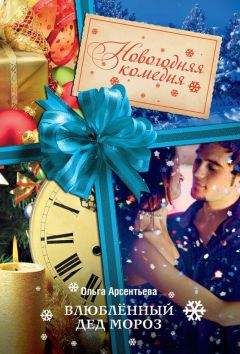
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/12422/12422.jpg)


