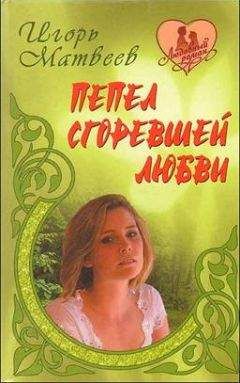— Так вот почему, когда мы познакомились, мне показалось, что я как-то видел тебя в милиции, — словно разговаривая сам с собой, произнес он. — Но я решил, что ошибся, что это была просто похожая женщина…
Вот и все, Глеб. Ты был неправ, ты только зря заронил в меня надежду. Передо мной сидел убийца-любийца.
Бондарев не сводил глаз с брелка, будто играл с лягушкой в «кто кого переглядит». И меня прорвало:
— Ну что же ты? Отличник боевой и политической подготовки! Бесстрашный боец с преступностью! Филолог-недоучка! Расскажи мне, как ты… убил моего сына! И как сбежал потом. И как после этого продал машину! По-быстрому, за триста баксов, только чтобы поскорее замести следы! Ну, давай же!
Он еще больше побледнел — от злости. Если бы это брошенное ему в лицо страшное обвинение было неправдой, можно было бы сказать — от гнева. Благородного. А так — от злости. Бессильной злости, вызванной моим разоблачением.
Ему все же удалось взять себя в руки. Он молча встал, подхватил свои костыли и заковылял из комнаты. Плечи Бондарева опустились, как будто их пригнула невидимая ноша.
Через минуту в туалете послышался шум спускаемой воды. Ага, тянешь время! Соображаешь, как выкрутиться! Ну-ну.
Он вернулся. Лицо его как-то сразу, в один миг, осунулось, не очень глубокие морщины обрисовались так четко, словно кто-то прорисовал их шариковой ручкой.
— Сядь, Наташа.
— Я тебе больше не Наташа! — отрезала я.
— Ладно. Тогда просто сядь. Да сядь же! — Бондарев схватил меня за руку и силой усадил на стул.
Сам вновь опустился на диван. Две или три минуты он молчал. Я с ненавистью смотрела на него, ожидая, пока он заговорит, и в то же время недоумевая: неужели, ну неужели здесь можно что-то объяснить? Оправдать?!
— Я не рассказывал тебе, как умер мой отец.
«Зато я рассказала тебе, как умер мой сын. И причем здесь это?»
— Рассказывал. От инфаркта.
— Не так. Не совсем так. В тот день, вернее, в тот вечер я возвращался домой с дежурства где-то около одиннадцати. Но отец ложился поздно, так что в окнах должен был гореть свет. А окна были темные. Я решил, что он остался ночевать на даче, утром он собирался поехать туда. Но… возле подъезда стоял его «Москвич». А отец всегда ставил его в гараж. Я удивился и забеспокоился. Открыл дверь, включил свет. Отец лежал возле дивана, вот этого самого. Он был в сознании, но только хрипел, будто его душили. Пульс почти не прощупывался. Я сразу вызвал «скорую», и его забрали. Сказали, обширный инфаркт. Несколько дней меня к нему не пускали, его состояние было критическим…
— Но причем здесь твой отец?
— Да не перебивай ты! — с досадой произнес он. — Был бы ни причем, я бы не стал… Ладно. В тот, самый последний, день мне позвонили и сказали, что отец умирает. Я поменялся с напарником и помчался в больницу. Отец был уже совсем плох, никого не узнавал, бредил. Но меня узнал. И рассказал, что с ним случилось в тот вечер… — помолчав, Бондарев добавил: — Сразу после этого его не стало.
— Когда он выехал с дачи, было уже довольно темно. До города оставалось километров пять, и тут впереди этот мальчик на велосипеде… твой сын, — поправился Бондарев.
Я уронила голову и закрыла лицо руками — мне уже не хотелось слушать.
— Нет уж, теперь до конца! — жестко сказал он. — Отец хотел обогнать велосипедиста, приблизился к нему вплотную, и вдруг тот, совершенно неожиданно, вильнул влево, прямо под «Москвич»: то ли объезжал что-то на дороге, то ли попал колесом на камень. Не удержал равновесия и упал с велосипеда. Отец… ударил его капотом. В голову. Сразу же затормозил, выскочил из машины. Твой сын был еще жив, но когда отец начал укладывать его в свой «Москвич», на заднее сиденье, мальчик… умер.
«Черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью» — так было написано в заключении патологоанатома, вспомнила я.
— Несколько дней спустя я нашел под задним сиденьем «Москвича» брелок. Бросил его в ящик с инструментами в гараже и забыл. Лишь когда отец перед смертью все рассказал мне, я понял: это брелок того самого погибшего подростка. Но я не знал, что… это твой сын.
Боже, за что наказываешь? Ну чем я Тебя прогневила? Что я Тебе сделала, Господи?! Это же невыносимо… Пусть это окажется дурным сном, ночным кошмаром, бредом. Ну дай мне силы проснуться и прекратить пытку, Господи — иначе… иначе я перестану верить в Твою мудрость и справедливость: нельзя же вот так, наотмашь, бить слабую и беззащитную женщину в который раз!
Но Он не слышал…
— Поверь, если бы был хоть малейший шанс… а так… Отец уложил мальчика на обочину дороги — и уехал. «Сынок, — сказал он мне, — я испугался, просто испугался. Что же мне, на старости лет идти в тюрьму за то, в чем я невиновен? Кто мне поверил бы? Чтобы я мучился, как в «Зоне»? Как раз по телику этот жуткий сериал показывали. Потом он заплакал. Я никогда не видел отца плачущим — это был первый раз. И последний: через несколько минут он умер, у меня на руках.
В комнате воцарилась тишина. Тяжелая и густая, как туман. Но она не могла тянуться до бесконечности, один из нас должен был нарушить ее.
— Ладно, — наконец проговорила я холодным чужим голосом. — До сих пор понятно. Но почему молчал ты?
— Почему? Так трудно понять? — с горечью спросил Бондарев. — Хотел сохранить у людей добрую память об отце. Он тридцать два года отпахал в локомотивном депо — уважение, грамоты, благодарности, все такое… А после смерти матери уже не женился, всего себя посвятил мне, растил, воспитывал — как мог. Думаешь, мне так легко было пойти на сделку с совестью? Но это — единственное, чем я мог отплатить за все, что он сделал для меня…
Я медленно поднялась. Непослушными пальцами потянула вверх молнию куртки и, как слепая, двинулась к двери. Меня догнал его голос, тихий и печальный:
— Мой отец убил твоего сына, но твой сын убил моего отца, Наташа…
Я медленно повернулась.
В глазах Бондарева стояли слезы.
Только дома я вспомнила, что не вернула ему ключи. И что мой «эйсер» остался у него. Ну и черт с ним, мне компов и на работе хватает…
Я знала, что он больше не позвонит.
Не станет искать встречи со мной, пытаться что-то досказывать и доказывать. Он рассказал все — а я вынесла свой приговор. Но почему-то те последние его слова снова и снова звучали в моих ушах: «Мой отец убил твоего сына, но твой сын убил моего отца…» И они не давали мне покоя.
Мой сын убил его отца…
Я вспомнила фото на стене в его гостиной: улыбающийся седой мужчина с усталым лицом и мягким, чуть печальным взглядом. «Наверное, твой отец был очень добрым человеком, Слава», — заметила я как-то. Он кивнул. «Знаешь, по утрам у нашего подъезда его всегда ждали бездомные собаки, он их подкармливал».