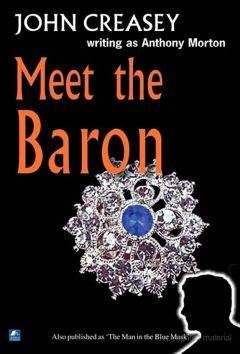плохо его помню, но когда отец уехал в Новосибирск, у меня появилась возможность порыться в его кабинете и найти старую, армейскую фотографию. На ней отец совсем молодой и сидит у костра, а рядом точно Хан, его сложно с кем-то перепутать.
«И он говорил с такой уверенностью, что отец любил маму…»
Забавно. Хан был абсолютно уверен в своих словах, да и я, что скрывать, это знаю. Наверно. Рыться в чужих отношениях — дело гиблое, знаю, но отец всегда когда выпьет лишнего, говорит только о маме. Говорит много. С нежностью, с печалью, грустью. Тогда как ты, черт тебя возьми, мог так над ней издеваться? При этом вполне логичном вопросе, мой мозг подбрасывает сцену, за которую я себя ненавижу. Говорят, что дети всегда выбирают два пути: либо они становятся похожими на своих родителей, либо становятся полной их противоположностью. Я давно решил следовать другому от отца полюсу, потом только понял, что все это были лишь слова. Решающая точка, как ни крути, поставлена была в маминой гостиной, когда моя ладонь пришлась на щеку Амелии.
Сам удар, если честно, стерся из памяти. Меня так взбесили ее слова, просто вывели, спустили с рельс, наложилось и то, что вся правда вскрылась так неожиданно. Я к этому не был готов. Абсолютно. И ее этот взгляд…я-тебя-никогда-не-прощу; больной взгляд; раненный. Слова, режущие на части плюс мой бесконечный стресс, страх за родных, страх провала, равно воплощению моего личного, самого кошмарного страха. Я повторил за отцом. Больше всего на свете я хотел, чтобы она заткнулась, и я сделал то, что видел много раз. Как нажал на кнопку «это работает точно», и сработало. Она заткнулась, но вместе с этим мне на плечи упал груз, весом в этот самый дом, в котором мы находились.
Испугавшись, я дал слабину, и теперь всю жизнь буду ненавидеть себя за эти несколько секунд, когда я не смог удержать себя на поводке. Это моя самая ужасная ошибка, которую допустил ни кто-то другой, а именно я. Не сдержался, потому что не умею сдерживаться. С ней пришлось учиться контролю и очень-очень быстро, ведь женщина, которую я выбрал, сама не умела сдерживаться. Кто-то же должен был, а в этот момент никто не смог. И я помню, как она сидела на полу в моих ногах, как держалась за щеку и смотрела на меня с таким…неверием. Удивленный, маленький, глупый котенок, которого ни разу, спорю на что угодно, не брали за шкирку и не били газеткой. Нет. Как бы она не кичилась, чтобы не говорила Лили, Амелия не привыкла к грубости и боли. Человек, которого били всю его сознательную жизнь, точно это определит, чтобы ему не вешали на уши.
Я был ее первым. Во всех смыслах, и если другие мне очень даже нравились, этот нет. Все, что я чувствовал — это дикое омерзение, ненависть и вину. Я был виноват перед ней, и я бы хотел заслужить ее прощение больше всего на свете, а отец что же? Он был на моем месте сотню раз, видел тоже, что и я, но продолжал делать с мамой то, что он делал. Разве это любовь? Я по себе знаю, что нет. Потому что я бы ни за что в жизни этого не повторил, потому что вряд ли смог бы выдержать этот взгляд еще хоть один раз, а он мог. Повторял, как заведенная игрушка. Снова и снова.
— Эм…а что происходит?
Снова меня вырывают «из себя», и я пару раз моргаю, переведя взгляд со своих рук в лобовое, откуда открывается действительно странная картина. Все датчики движения работают, освещая территорию дома отца и Насти, как будто это спортивное поле, на котором сейчас пройдет кубок по футболу. Перед домом как раз собрались болельщики, только выглядят они странно. Все в черном, накаченные, высоченные шкафы и с жуткими рожами, на которых жирным капслоком написано: УБИВАТЬ.
Мы с Лексом переглядываемся, выгибаем брови, и тут то голос подает наш пассажир. Лили придвинулась ближе, теперь была между нами, а потом прошептала.
— Это армия…
Я клянусь чуть не прыснул, что за пафос?! Скептически смотрю на свою бывшую, но она вся побелела, пугливо сжалась, а когда коротко ответила на мой взгляд, я понял, что она не шутит и не прикалывается.
— Что за хрень?! — начинает Лекс, но я не даю ему договорить, а выхожу.
Какой смысл лить воду с одного кувшина в другой, когда все ответы находятся в доме? Это же логично. Я стараюсь сейчас следовать именно по пути логики, исключая все возможные чувства, чтобы быть хотя бы на пару десятков процентов трудоспособным или хотя бы передвигаемым. Короче отметаю все метания, засовываю руки в карманы пальто и иду к входу, как раз в тот момент, когда машина Марины останавливается неподалеку, а за ней въезжает Миша.
— Максимилиан Петрович? — хрипло спрашивает доселе мне незнакомый мужик с черной папкой в руках, на что я цинично усмехаюсь.
— Не похож? Предъявить документы?
— Нет, — все также хрипло и подчеркнуто холодно мотает головой, отступая на шаг, — Заходите в дом, пожалуйста.
Шутку не оценил. Обидно. Слегка закатываю глаза, но направляюсь к ступенькам, краем глаза замечая, как сестре задают тот же дебильный вопрос. И вот спрашивается, зачем? Только потом до меня доходит, когда я вижу, как мужик что-то пишет, что он просто сверяет списки. Очень помпезно ставит галочки напротив имен. Ха. Даже забавно.
За всем этим бредом я наблюдаю наверху лестницы, где решаю подождать своих. Маленький бунт на корабле никто не отменял все-таки, и я слегка усмехаюсь этой мысли, делаю короткую затяжку.
— Что происходит? — тихо спрашивает Мара, забирая у меня сигарету, которую сама решает пригубить, — Кто эти зэки?!
— Без понятия.
— Может потребовать ответов?!
— Думаю, что он тебе ничего не скажет, — также тихо вклинивается Лекс, тоже делая затяжку с ее руки, — У него приказ. Если хотим что-то узнать, надо спрашивать с того, кто его отдал.
Отец. Очевидно, как наступление ночи и дня, как и то, что Лекс прав. Тряси этих головорезов, не тряси, они молчать будут. Такие говорят только с теми, кто платит, а в нашей ситуации это совершенно точно отец. Так что, прикурив «трубку мира», где каждому досталось по чуть-чуть, и дождавшись последнюю из списка Лилиану, я поворачиваюсь к большим, резным дверям.
Ну здравствуй, дом, да? Нет. Это не мой дом, и как бы Настя не старалась, им он никогда не будет,