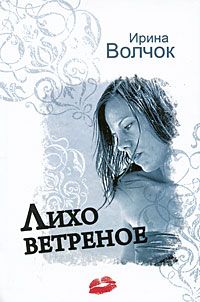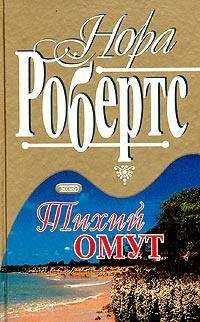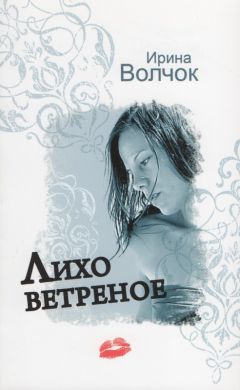Веру Генка ни разу не шлепнул, не ущипнул и не лапнул. И вообще близко не подходил. А издали смотрел все время. Когда думал, что не видит — кусал губы, хмурился, желваками играл. Когда встречался с ней взглядом — дергал кадыком и сильно бледнел. И глаза у него были не как пластмассовые пуговицы, а как у раненого волка, которого объездчики привезли однажды зимой в Становое. Не стали добивать, а связали и привезли к ветеринару: может, вылечит. А то один знакомый собачник давно молодого волка ищет, идея у него — овчарку и волка скрестить, посмотреть, какие щенки получатся. На волка посмотреть сбежалось пол поселка, и Вера пришла. Волк лежал связанный на столе, ветеринар готовил инструменты и с сомнением посматривал на его разодранный бок, а в дверях толпились любопытные, говорили: «Ух, ты!» — и уходили, новые заглядывали и тоже говорили: «Ух, ты!» — и тоже сразу уходили. И Вера заглянула, увидела, как жестоко затянуты ремнями сильные сухие лапы, как опасно разодран черно-серый мохнатый бок, и пожалела волка: как же ему сейчас больно, страшно и тоскливо… Волк, будто почуял ее взгляд, открыл глаза и посмотрел на Веру. И она совершенно ясно поняла: да, ему больно, страшно и тоскливо — и он отключил все это, чтобы не сойти с ума, чтобы это не мешало ему выжить… Но он был связан, связан, связан, это невозможно было отключить, это было самое страшное, самое непонятное и самое несправедливое, что только может случиться с живым существом, и он не может ничего с этим сделать, даже рану зализать не может, даже уползти не может — куда-нибудь в темноту, в лес, в снег, и умереть там свободным.
— Его надо развязать, — сказала Вера.
— Зверя-то? — удивился ветеринар. — Бог с тобой, девочка, зверя развязывать нельзя. Это зверь, девочка, хищник. У хищника, девочка, всегда одна мечта: кого бы сожрать.
Вере не понравились эти слова. Она была на стороне волка.
Генка смотрел на нее глазами того раненого волка. Как будто он был тоже связан, связан, связан, и это было самое страшное, самое непонятное, самое несправедливое, что только может случиться с живым существом.
Начались каникулы, одноклассники почти все разъехались кто куда, взрослые мужики тоже разъехались — на заработки, в город, особняки бандитам строить. Не разъехались только совсем уж конченые алкаши, с утра до вечера толкли пыль возле единственного в Становом магазина или смирно лежали под заборами. У алкашей жизнь была до краев наполнена своими проблемами, и Веру они не замечали. А если вдруг замечали — то крестились, плевали через левое плечо или говорили что-нибудь вроде: «Все, завязывать надо…» В общем, жить не мешали.
Немножко мешал жить физрук. Летом он ее в покое не оставил, гонял каждый день даже больше, чем в школе, не выпускал из рук секундомер, испуганно таращился на него, хватался за голову, говорил: «Да чтоб же вам всем!..» — и по четвергам ездил в районную администрацию, по четвергам там были приемные дни, так что Вера по четвергам сачковала. Так, поплавает немножко — и за книжки. Единственная в Становом библиотека была замечательная, там и Фрейд был, и Адлер, и Фромм, и кое-что из современных американцев… Однажды она даже Ломброзо нашла в библиотечной кладовке, читала потом полночи и радовалась: если верить теории Ломброзо, физрука надо без суда и следствия прямо завтра отправить на каторжные работы. А лучше — вчера… А лучше — в первый же день каникул. Вот и чего он не уехал куда-нибудь? Ведь почти все уехали…
Генка не уехал. Матери на огороде помогал. В Становом почти все жили только со своих огородов, работать-то негде было. Правда, Генкина мать еще хорошо устроилась — нянечкой в единственном в Становом детском саду. Деньги, конечно, никакие, но там хоть поесть можно было, да и домой чего-нибудь принести. Так, по мелочи — хлеб оставшийся, миску макарон с мясной подливкой, иногда даже горсточку сахарного песку, аккуратно сметенного с кухонного стола в пакетик. Детям-то просыпанное не дашь, а домой — ничего, можно. Генкина мать была человеком совестливым, никогда лишнего не хапала, забирала только то, что вовсе на выброс оставалось. Да она и того бы не забирала, но ведь дома четыре вечно голодных рта — у нее кроме сына еще три дочери было, маленькие, первый-второй-третий классы. Повезло еще, что муж три года назад от пьянки помер, все на один рот меньше. Живность кое-какую держали, как же без этого… Кур, поросенка, двух коз. Но и яйца, и козье молоко, и свинина — это ведь почти все на базар шло. Девок обувать-одевать надо, Генке тоже то и дело что-то новое, дом каких расходов требует… а учебники нынче почем? И каждый год — все что-то другое придумывают, совсем совести у людей нет… так что питались главным образом с огорода. Огород — большой, пятьдесят соток. Это в центре Становое считалось поселком городского типа, на главной улице даже четыре пятиэтажки было. А на окраинах — хорошо, земля немереная, на окраинах почти у всех огороды по пятьдесят соток. А такую работу в одни руки — дело немыслимое. Вот Генка матери и помогал на огороде. Генка мать жалел, и сестренок тоже. Вот интересно: раздолбай — а о своих заботился. С утра до ночи на этом огороде пахал. Совсем запахался, даже, кажется, похудел. Или это из-за загара казалось. Совсем черный стал.
Вера каждый день бегала вдоль речки за окраиной поселка, от Тихого Омута до старого парка и обратно, мимо всех этих окраинных огородов, на каждом из которых бессменно торчала согбенная спина, обтянутая выгоревшими ситцевыми узорами. Одна Генкина спина была без ситцевых узоров, просто голая спина, совершенно обыкновенная, только очень загорелая, а так — и смотреть, в общем-то, особо не на что. Вера и не смотрела.
А Генка на нее смотрел. Волчьими глазами. Издали. Она делала вид, что не замечает, но замечала все. Даже когда он прятался в кустах на другом берегу Тихого Омута и не шевелился все полтора часа, пока она без остановки плавала от берега до берега или прыгала в воду с расколотой молнией березы. Генка даже по четвергам не шевелился, когда она плавала без присмотра физрука, по Ломброзо — потенциального преступника, может быть, даже убийцы. По четвергам физрук присматривал потенциальную жертву в районной администрации.
Один четверг, второй четверг, третий четверг… Физрук в четвертый раз уехал искать жертву, Вера переплыла Тихий Омут и не без труда выбралась из воды — дна и здесь не было, и пришвартованного к берегу плотика не было, так что приходилось выбираться на руках, цепляясь за ненадежные ветки плакучих ив. Зато берег на этой стороне был пологий, весь заросший чистой низкой травой, мелким белым клевером и аптечной ромашкой. Вера села на чистую траву, подставила лицо солнцу и, не оглядываясь, сказала: