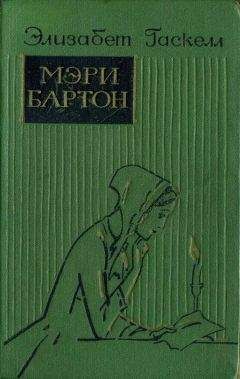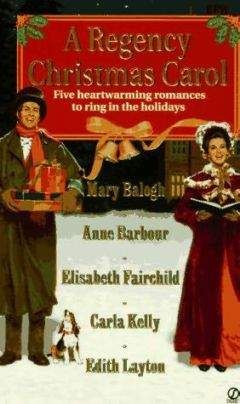– Что ж, Маргарет, ты ведь знаешь, что я всегда рада тебе помочь, и сегодня охотно помогу, хоть я и порядком устала: вечером у мисс Симмондс было много работы.
Пока шел этот разговор, Мэри разворошила угли и зажгла свечу; Маргарет присела с работой у одного конца стола, а ее подруга наскоро выпила чаю на другом конце. Затем поднос с посудой был переставлен на комод. Мэри обмахнула свой край стола передником, который всегда носила дома, взяла два куска материи и принялась их сшивать.
– Кому это ты шьешь? Может, ты и говорила мне, но я уже забыла.
– Да миссис Огден, у которой зеленная лавка на Оксфорд-роуд. Муженек ее умер от запоя, и хоть она немало слез пролила из-за него, пока он был жив, сейчас, когда он умер, очень она по нем убивается.
– А много он ей оставил? – спросила Мэри, рассматривая ткань платья. – Какой красивый и мягкий бомбазин!
– Нет, боюсь, что немного, а у нее, кроме трех старших дочерей, есть ведь еще и малыши.
– Мне кажется, что барышни вроде них могли бы и сами сшить себе платья, – заметила Мэри.
– А они, наверное, и шьют себе сами. Только сейчас они очень заняты приготовлениями к похоронам: хотят, чтобы было поторжественнее. Одна из малышек сказала мне, что приглашено на поминки двадцать человек. Девчушке, видно, очень нравится вся эта суета, да и бедной миссис Огден, наверно, легче за работой. Мне пришлось дожидаться ее на кухне – там так пахло ветчиной и жареной птицей, что можно подумать, к свадьбе готовятся, а не к похоронам. Говорят, эти похороны обойдутся миссис Огден фунтов в шестьдесят.
– Ты ведь, кажется, сказала, что у нее нет денег, – заметила Мэри.
– Я только знаю, что она в нескольких лавках просила в долг: говорила, что муж отбирал у нее все до последнего фартинга и пропивал. А в том, что она такие похороны устраивает, гробовщики виноваты: они сказали ей, что так полагается, что надо отдать дань уважения покойному, что все так делают, – словом, совсем сбили с толку бедняжку. Да, видно, и на душе у нее неспокойно (мы ведь всегда корим себя, когда человека уже нет в живых). Сколько она, наверно, горьких слов ему говорила, сколько по мелочам обижала покойника. Вот она и решила зато устроить ему хорошие похороны, хоть и ей и детям придется потом не один год во всем себе отказывать, чтобы расплатиться с долгами, если они вообще когда-нибудь расплатятся.
– Да и этот траур обойдется им недешево, – заметила Мэри. – Я часто удивляюсь: зачем люди носят траур. Это и некрасиво, и никому не идет, а денег стоит уйму, да еще в такое время, когда деньги бывают очень нужны. А потом, если верить писанию, не надо жалеть о хорошем человеке, когда он обретает вечный покой; а если умирает плохой человек, то надо только радоваться. Право, не понимаю, кому нужен траур.
– А я, кажется, знаю, зачем нам ниспослан этот обычай (Элис всегда говорит «ниспослан», и, по-моему, она права). Он приносит немалую пользу, хоть и обходится дорого, так как он заставляет что-то делать людей, сломленных горем и способных, казалось бы, только плакать. Вот, к примеру, рассказывала же я тебе, как убивалась миссис Огден и ее дочки: может, покойник и был для них добрым мужем и отцом, когда не пил. А как они повеселели, когда я пришла! Я нарочно во всем с ними советовалась, спрашивала их мнение, чтобы заставить их говорить и отвлечься. Я даже оставила им журнал (хотя и двухмесячной давности).
– Я не думаю, что все люди так оплакивают своих покойников. Вот Элис вела бы себя иначе.
– Таких, как Элис, одна на тысячу. Я не думаю даже, что она очень уж стала бы убиваться, как бы тяжело ей ни было. Она сказала бы, что это ниспослано свыше, и постаралась бы увидеть в этом какую-то благую цель. Она считает, что все беды ниспосылаются ко благу. Я не говорила тебе, Мэри, что она сказала мне как-то, увидев, что я очень расстроена?
– Нет, но, пожалуйста, скажи. Только сначала мне хотелось бы знать, чем ты была так расстроена?
– Этого я тебе сейчас не могу сказать. Может, скажу когда-нибудь позже.
– Когда же?
– Может, даже сегодня вечером, если будет настроение, а может, и никогда. Это так страшно, что иной pas я боюсь об этом даже подумать, а иной раз не могу думать ни о чем другом. Ну и вот, как-то раз мучилась яэтим страхом, и вдруг заходит ко мне Элис и видит, что я плачу. Я ей тоже не стала ничего рассказывать, как сейчас тебе, Мэри. А она и говорит мне: «Вот что, душенька, как тебе взгрустнется или станет тяжело, вспомни, что смятенную душу покидает бог». И знаешь, Мэри, с тех пор только я начну роптать, как вспомню про слова Элис и сразу сдержусь.
Некоторое время слышен был лишь однообразный скрип иглы, проходящей сквозь ткань.
– А тебе заплатят за этот траур? – спросила наконец Мэри.
– Скорей всего, что нет. Я и сама над этим задумывалась и настроила себя так, что не заплатят. Пусть, решила я, это будет моим подарком и хоть немного порадует их. Не думаю, чтобы они могли мне заплатить, но без траура обойтись они тоже не могут, иначе у них на душе неспокойно будет. А для меня в трауре одна беда: очень глаза болят, когда я шью черное.
Маргарет со вздохом опустила работу на колени и прикрыла глаза рукой. Затем притворно-весело добавила:
– Тебе не придется долго ждать, Мэри, чтобы я открыла тебе свою тайну: она уже рвется у меня с языка. Знаешь, Мэри, мне иногда кажется, что я слепну. А что тогда будет с дедушкой и со мной? О господи боже, помоги мне!
И она разрыдалась, а Мэри, опустившись подле нее на колени, принялась утешать и успокаивать ее, однако по неопытности Мэри старалась опровергнуть страхи Маргарет, тогда как следовало помочь ей признать свое несчастье и вступить с ним в борьбу.
– Нет, – сказала Маргарет и твердо посмотрела на Мэри полными слез глазами, – я знаю, что это так. Я уже давно почувствовала, что один глаз у меня стал плохо видеть – задолго до того, как поняла, к чему это может привести. А осенью я пошла к доктору, и он сказал мне прямо, без обиняков, что мне надо сидеть в темной комнате сложа руки, иначе мне не сохранить зрения. Ну, а разве я могу, Мэри, это себе позволить? Во-первых, дедушка сразу бы понял, что со мной творится что-то неладное, – как он будет горевать, когда узнает! Поэтому чем дольше не говорить ему, тем лучше. А потом, Мэри, ведь порой нам очень туго приходится, и мой заработок тогда бывает большим подспорьем. Дедушка то тут урвет денек от работы, то там – либо займется своей ботаникой, либо отправится на поиски редких насекомых- и заплатить четыре-пять шиллингов за какой-нибудь экземпляр ему ничего не стоит. Милый дедушка! Как мне тяжело думать, что он лишится такого удовольствия! Тогда я пошла еще к одному доктору: может, он скажет что-то другое. Он сказал мне: «Ничего страшного, просто глаз немного устал», – и дал пузырек примочки, но я израсходовала уже три пузырька (каждый два шиллинга стоит), а глазу все хуже: болеть он у меня перестал, но видеть я ничего не вижу. Вот, к примеру, ты, Мэри,- продолжала она, закрыв один глаз, – кажешься мне сейчас большой черной тенью, окруженной огненной, расплывающейся линией.