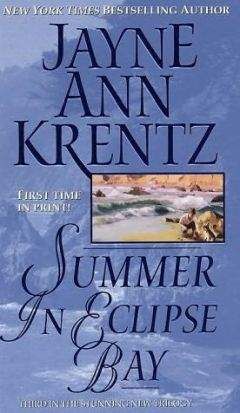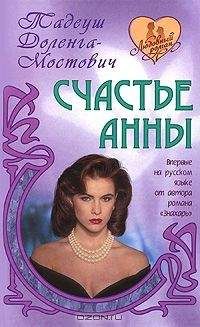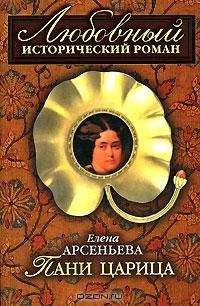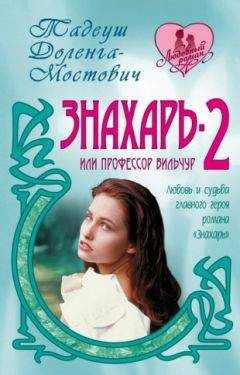Добранецкий слегка прикусил губу, но поднял голову и, глядя в глаза Вильчуру, ответил:
– Да. Я не собираюсь скрывать это.
– И причины нет у вас, – подхватил Вильчур.
– Нет причины, нет, – подтвердил Добранецкий. – Я не принадлежу к числу тех людей, которые чего-нибудь боятся и которые соглашательски готовы мириться с тем, что считают злом, вместо того чтобы любыми средствами противостоять этому.
Вильчур усмехнулся.
– Как вы точно выразились: любыми средствами. Вы не погнушались ни одним, но не об этом я хотел с вами говорить. Так вот, Тухвиц выдвинул альтернативу, оставляя за мной право выбора: или, оставаясь руководителем клиники, убрать из нее тех, кто, обманывая общественное мнение, вредит ей, или уйти самому.
Он умолк, ожидая вопроса Добранецкого. Тот, однако, лишь несколько побледнел, но не произнес ни слова. Вильчур смерил его презрительным взглядом.
– Тухвиц оставил решение за мной, и я его уже принял: несколько минут назад я послал ему письмо с отказом от руководства.
На лице Добранецкого выступили красные пятна.
– Я сообщаю об этом вам, потому что в том же письме содержится мое решение о передаче клиники в ваши руки. И я хотел спросить вас, окажете ли вы мне эту маленькую любезность принять ее.
Добранецкий пошевелил губами, но ничего не сказал.
– Это облегчило бы для меня ситуацию, – продолжал Вильчур спокойным тоном. – Передавая руководство кому-нибудь другому, я был бы вынужден затратить много времени на всякого рода объяснения, в то время как вы, неоднократно замещая меня, прекрасно обо всем осведомлены. Только сегодня я вернулся из отпуска, поэтому мне меньше известны текущие дела клиники, чем вам. Так вы согласны?
– Согласен, – лаконично ответил Добранецкий.
Вильчур встал.
– Значит, вопрос решен, и я вас поздравляю. Добранецкий тоже встал и сказал:
– Прощайте, пан профессор.
Он протянул Вильчуру руку, но тот покачал головой.
– Нет, извините. Руки я вам подать не могу.
Добранецкий на какой-то момент застыл как
изваяние, потом вдруг резко повернулся и быстро вышел из кабинета.
У профессора Вильчура было еще довольно много работы. В его кабинете в шкафах и ящиках стола лежали книги, принадлежащие ему, записки, планы лекций… Следовало во всем этом разобраться, все это сложить, а затем попросить, чтобы запаковали. Когда он закончил эту работу, на улице уже смеркалось.
Вильчур оделся и, проходя через приемную, увидел Люцию. Она ждала его.
– Добрый вечер, панна Люция, – обрадовался он. – Я думал, что вас сегодня нет в клинике. Почему вы не заглянули ко мне?
– Я заходила сюда много раз, пан профессор, но над дверью вашего кабинета все время горела красная лампочка.
– Ах, да-да. Я был очень занят.
– Сегодня закончился ваш отпуск?
– Сегодня, – подтвердил Вильчур.
– Какой же вы нехороший, пан профессор! Все праздники ведь были в Варшаве, а я об этом ничего не знала.
Он улыбнулся, глядя на нее.
– А как вы узнали?
– У меня есть аж два доказательства вашего присутствия в Варшаве.
– Даже два?
– Да. Я звонила вам.
– Но Юзеф об этом мне ничего не говорил.
– Потому что вовсе не Юзеф подходил к телефону, а какой-то странный человек. Мне показалось, что… что он… Извините, пожалуйста, но мне показалось, что он душевнобольной.
– Душевнобольной?
– Ну да. Он говорил такие глупости и был, кажется, совершенно пьян.
Профессор рассмеялся и махнул рукой.
– Да, действительно. Это Емел. Вы знаете его. Это бывший наш пациент. Премилый человек.
– Премилый? – удивленно спросила Люция. – Кажется, был такой бандит в бесплатном отделении.
– Именно тот, – подтвердил Вильчур. – Это какой-то деклассированный интеллигент. Из него невозможно вытянуть, кем он был в прошлом. На сегодня он, действительно, бандит. Я даже не знаю, как его зовут. Познакомился я с ним много лет назад, и тогда, если мне память не изменяет, он назвался Обядовским или Обе-диньским. Сейчас носит фамилию Емел. Через год, возможно, сменит на какую-нибудь более удобную. Да, это странный человек. Он, действительно, бандит…
– И пьяница, – добавила Люция. – Мне было бы стыдно повторить вам все то, что он мне наговорил… Вы в самом деле пили с ним, пан профессор?
– Пил немного… может, многовато, – усмехнулся Вильчур. – Но вы одеты? Уходите?
– Да. Я ждала здесь вас, потому что курьер мне сказал, что вы скоро освободитесь.
– Прекрасно. Значит, идем.
Спустились легкие сумерки. Приятно дышалось свежим воздухом. Они перешли на другую сторону улицы. Профессор остановился и стал всматриваться в здание больницы. Почти все окна были освещены мягким белым светом. Высокий горделивый фасад представлял собой нечто достойное, спокойное и вечное.
Профессор стоял неподвижно. Проходили минуты. Озадаченная его необычным поведением, Люция заглянула ему в лицо и увидела две слезы, спадающие по щекам.
– Профессор! – произнесла она шепотом. – Что с вами?
Он отвернулся и, улыбнувшись, сказал:
– Разволновался немного. Я оставил здесь свое сердце…
– Оставили?
– Да, панна Люция. Оставил. Я никогда уже не вернусь сюда. Это – прощание.
– Что вы говорите, пан профессор?!
– Это так, панна Люция. Сегодня я был здесь в последний раз. Я подал рапорт об уходе, передал руководство профессору Добранецкому… Старый уже я, панна Люция.
Люция не смогла ничего ответить: ей сдавило горло. Она дрожала как в лихорадке. Вильчур заметил это и нежно взял ее под руку.
– Пойдемте. Собственно, ничего страшного не произошло. Обычный порядок вещей: старики уступают место молодым. Так было с зарождения земли. Не переживайте, панна Люция…
– Это страшно… это страшно… – повторяла она дрожащими губами.
– Ничего страшного. Все так убеждали меня в том, что я должен отдохнуть, вот я, наконец, и поверил им. Давайте оставим это в покое. Как вы провели праздники?
Она покачала головой.
– Ой, профессор, я, действительно, не могу собраться с мыслями. Эта новость обрушилась на меня как гром с ясного неба.
Он слегка рассмеялся.
– Ну, скажем, не совсем с ясного. Уже давно эта туча висела над моей головой, и раздавался не столько гром, сколько какое-то шипение и свист. Очень странная туча. Утешает меня лишь то, что единственный раскат грома прогремел по моему желанию… Ну, так расскажите мне, как вы провели праздники.
– Зачем же вы спрашиваете? – ответила она минуту спустя. – Вы же знаете, что они не могли быть веселыми для меня.