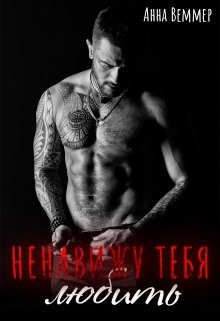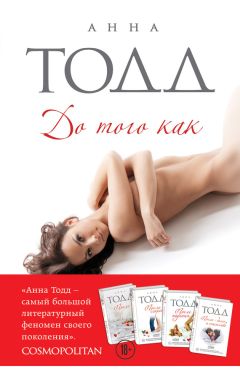И снова пощечина.
— Я как дура сидела и ждала тебя! Мне было страшно, я считала минуты до твоего прихода, потому что ты обещал! Ты не просто обещал не трогать меня, ты обещал защитить!
Злость так же резко, как возникла, сменяется усталостью. И жалостью к себе.
— За что вы так? Что я сделала? Думаешь, я глупая? Думаешь, не видела, что отец меня ненавидит? Я постоянно его спрашивала. А он молчал. Говорил «Аврора, иди к себе, я занят». «У тебя теперь есть муж, обращайся с вопросами и просьбами к нему». В детстве я искала причины. Ну… учусь не так хорошо, как могла бы. Петь не умею, танцую плохо, не побеждаю на олимпиадах. А потом устала искать. Какая разница, почему отец меня ненавидел? Я все равно не смогла бы стать хорошей дочерью. Я упустила шанс, когда мама из-за меня умерла. Я…
Слезы проливаются на щеки. Вспоминать об этом больно, но иногда боль нужна — чтобы хоть немного чувствовать себя живой.
— Я спрашивала у отца, почему мама не сделала аборт. Оказывается, она хотела, но он ей не позволил. Я сказала, что зря.
— Она хотела сделать аборт? — вдруг спрашивает Виктор, хотя до этого хранил молчание.
— Зря не сделала. Я устала. Хочешь совет? Знаешь, что делают с ненужными котятами?
Виктор одним движением сгребает меня в объятия, сжимая так крепко, что на секунду темнеет в глазах. Или это от того, что кружится голова?
— Хватит, — тихо говорит он. — Не надо. Прости. Прости, котенок, я не хотел тебя напугать… черт, вру, хотел, конечно. Не знаю, что тебе сказать. Не знаю, как объясниться. Тебе нельзя со мной жить. Я действительно редкостная тварь. Не знаю, что хуже, выпустить тебя туда, где ходит кто-то, выкладывающий нас в сеть, или оставить рядом с собой. Почему ты меня ждала, котенок? Чего ты испугалась?
От него пахнет мятой и цитрусом. Я чувствую собственные слезы на рубашке Виктора, и его руки на моей спине.
— В квартире кто-то был. Оставил конверт с ключом от номера, где мы… где ты жил в день, когда мы встретились.
— Что?! И ты здесь сидела?!
— Валентин все обыскал. Он не смог тебе дозвониться.
— Вот черт.
На секунду Островский сжимает меня крепче, и в этом жесте нет ничего, кроме злости. Но она направлена не на меня, и с удивлением я понимаю, что не зря его ждала. Дышать становится легче, хотя сердце все равно колотится в диком ритме. Я ненавижу его, но не хочу, чтобы он разжимал руки.
— Вот что, котенок.
И все же он выпускает меня, правда уже затем, чтобы обхватить ладонями мое лицо и коснуться губами лба.
— Вот как мы сделаем. Завтра ты улетишь. Куда захочешь, за границу. Найдем тебе там жилье, приставим охрану. Сделаем другие документы, чтобы не светить имя. Улетишь и будешь жить как можно дальше от сюда. Ото всех, кто может знать нас. И от меня подальше, хорошо?
— Но…
Я задыхаюсь одновременно от ужаса перед перспективой остаться совсем одной в чужой стране и волнения — губы бывшего мужа очень близко, почти касаются моих, когда он говорит.
— Там будет безопасно. Никто не узнает, кто ты, никто тебя не обидит. Будешь жить как можно дальше отсюда. Куда ты хочешь? США? Канада? Давай в Канаду, котенок? Там хорошо, и даже есть снег. Ты любишь снег, я помню. Утром соберешь вещи…
Он обрывает фразу на полуслове, впиваясь мне в губы поцелуем, но уже через секунду отрывается, словно одергивает себя.
— … я сделаю тебе документы за несколько часов.
Снова поцелуй.
— Ночным рейсом улетишь. На первое время поселишься в отеле.
И еще, только на этот раз я вдруг к собственному удивлению тянусь в ответ — и касание длится куда дольше.
— Потом подберешь себе дом. Никто не узнает о тебе ничего, а даже если и узнают, если я не смогу найти того, кто ведет блог, ты будешь слишком далеко, чтобы до тебя кто-нибудь добрался.
Виктор целует мою шею, царапая кожу щетиной, перебирает волосы, и у меня кружится голова, а внизу все сводит сладкой судорогой.
— Достаточно далеко от меня. Звучит как хэппи энд, котенок. У нас с тобой возможен только такой конец.
17. Виктор
Год назад
— Леонид Алексееич?
Я заглядываю в палату. Тесть совсем плох, это видно невооруженным глазом. Отеки, круги под глазами, дикий тремор — ничего не осталось от некогда статного и уверенного в себе дипломата. Смерть не щадит никого, а в его палате она, похоже, уже обосновалась.
— Заходи, Вить. Садись. Выгони из кресла суку с косой и садись.
Я натянуто улыбаюсь: мы, наверное, похожи, во всяком случае, часто думаем об одном и том же. Только я бы не хотел закончить, как он. Правда, пока не понимаю, как свернуть с проторенной дорожки, да и стоит ли.
— Как сам? Как работа?
— Все в порядке. Лечитесь, дела в гору. Отключите телефон и забейте на рабочие вопросы, я со всем разберусь.
— Я не выйду из больницы, Вить.
— Да бросьте, и не таких вытаскивали.
— Тогда считай это причудой больного деда, — слабо улыбается Рогачев. — Если выпишут живым — забудешь, что я сказал. А если нет, то сделаешь то, что попрошу.
— Конечно. Что вам нужно?
Ему тяжело говорить, одышка просто адская. И я невольно думаю, что тесть может оказаться прав. Он давно играет со смертью и не утруждает себя заботой о будущем.
— Аврорка от тебя уйдет, едва меня закопают.
Я пожимаю плечами. Она говорила.
— Имеет право. Отпустите уже девку. Времена давно другие, развод не повредит ни бизнесу, ни репутации. А об остальном она будет молчать.
— Уверен? А если нет?
— После пяти лет брака это будет выглядеть как попытка срубить бабла. Да и какая, к черту, разница? Расскажет и расскажет, меня обвиняли и в вещах похуже.
— Теперь это твоя забота. На самом деле я тебя позвал по другому делу. Аврорка от тебя уйдет, но…
Он надсадно кашляет и несколько минут приходит в себя, пытаясь отдышаться.
— Она не выживет. Помоги ей, ладно? Научи, как выжить, иначе ей конец. Она же как домашний котенок, ничего толком не умеет и не понимает. Знаешь, Виктор, я наделал много дел в своей жизни и, пожалуй, Аврорка — моя главная ошибка. Но правду говорят, подыхать с грузом на сердце совсем не хочется. Дай девчонке шанс выскрестись в этой жизни из ямы.
— Она вряд ли примет мою помощь, но я сделаю все, что смогу.
— Примет. Примет, еще как, у нее не будет выбора. Я написал завещание, ты получишь все, что у меня есть.
— Вы бредите. Вы так хотите ей помочь? Оставив без гроша? Да она из окна выйдет! Это такая помощь?!
В палату заглядывает встревоженная медсестра, но Рогачев жестом и кивком дает понять, что все в порядке. А потом с неожиданной силой хватает меня за руку. У него ледяная, с легким синюшным оттенком, кожа. Болезнь за пару недель превратила его из пожилого, но крепкого мужчины, на которого еще клевали женщины, в глубокого старика.
— Послушай меня, Виктор, дослушай до конца. Тебе не надо объяснять, как я вел бизнес. Что за партнеры у меня были и на сколько законов и моралей мы плевали, делая большие деньги. Ты все знаешь и сам. Ты прав, время изменилось, но что-то не меняется. Они ее сожрут, понимаешь? Если у Авроры будут деньги, бизнес, да хоть что-то — они ее заживо сожрут! И найдут по весне в лесочке по частям. Ты столько раз это видел, не говори, что я спятил. Тебя никто не посмеет тронуть, а ее… получишь деньги, получишь рычаги. И научи. Пусть научится тратить. Работать. Пусть поймет, что осталась одна и надо выгрызать себе место под солнцем.
Хватка слабнет, рука тестя бессильно падает на постель.
— Если ты готов рискнуть бизнесом ради ее свободы, тебя не испугает репутация олигарха, оставившего бывшей после развода копейки. Аврора никого не заинтересует, если у нее ничего не будет. Сделай, пожалуйста, Виктор. Это важно. Это мое «прости» для нее.