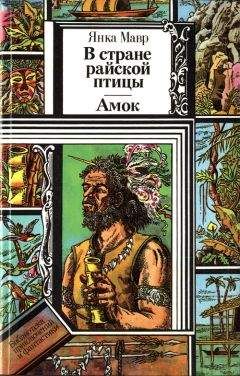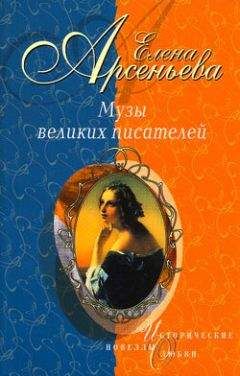Он задумался — и, как и обычно, окружающая его тишина заполнилась музыкой. Вероятно, какое-то время он просто гулял; небо становилось все темнее и темнее, и вдруг он понял, что безнадежно заблудился, совсем как Гензель и Гретель. Притомившись, он присел у дерева на пару минуток, чтобы привести в порядок мелодии, звучавшие у него в голове, и поразмыслить над тем, что же ему теперь делать. Видимо, вскорости он уснул, потому что следующее, что он помнит, — холодный металл ружья, уткнувшийся прямо ему в затылок.
— Помню, я тогда подумал: вот все и кончилось, не успев даже толком начаться. Мне было немного грустно, но думал я будто не о себе, а о ком-то другом.
Медленно обернувшись, он встретился глазами с немецким солдатом примерно его лет. Ужас в глазах солдата соответствовал ужасу Берти — оба юноши буквально тряслись от страха. Палец немца на спусковом крючке дрожал. Он не сводил глаз с Берти и все бормотал, словно заклинание, одну и ту же фразу: «Der Sohn einer Mutter». Потом он опустил ружье и разрыдался.
— Мы же были мальчишки, испуганные и одинокие, отчаянно скучающие по дому, — рассказывал папа.
Тогда Берти взял свое ружье и торжественно положил его рядом с немецким. Он протянул юноше руку и представился, словно они встретились на какой-нибудь вечеринке:
— Рядовой Берти Живаго, пятая бронетанковая дивизия.
— Юрген Гебер, вторая дивизия немецкой армии, — представился юноша и вежливо пожал папину руку.
При помощи папиного корявого идиш и школьного английского Юргена они сделали первые шаги по пути дружбы, которая прервалась только много лет спустя, со смертью Юргена, скончавшегося в 1973 году.
— Я бы не смог тебя убить, — признался Гебер, когда они сидели плечом к плечу у дерева и курили одну сигарету на двоих, — я все думал: он ведь тоже чей-то сын, как и я. Der Sohn einer Mutter. Я с тем же успехом мог бы убить и самого себя. У меня перед глазами стояло лицо матери, каким оно было, когда я уходил на войну. Она обняла меня, и я понял, какая же она маленькая и хрупкая — я мог раздавить ее своими объятиями. Она так пристально смотрела на меня, словно хотела запомнить мое лицо навсегда.
Даже сложением они походили друг на друга: оба невысокие, крепкие, синеглазые кудрявые брюнеты. Юрген отбился от своего полка, пытаясь укрыться от вражеского обстрела. Следующие два дня молодые люди вместе прятались в лесу. Питались они подстреленными кроликами, с которых неумело обдирали шкуру и жарили прямо на открытом огне. Наевшись обгорелого и местами волосатого мяса, они начинали рассказывать друг другу истории.
— Я не хотел идти в армию, — рассказывал Юрген, — меня заставили. Что это вообще за страсть умирать за свою страну, вне зависимости от ее поведения? Национализм — вредная штука, сначала он учит ненавидеть, а потом убеждает, что ненависть — это хорошо. Они несут всякий бред про евреев и сравнивают их с крысами, а потом показывают картинки с убитыми крысами. Вот ты сказал, что ты еврей, но я же вижу, что ты такой же человек, как и я. В этом мире мы все люди, полные надежд и страхов, которые хотят любить и быть любимыми. А до войны нас довели злодеи, которые свою злобу хранят в сердцах и умах и выпускают ее наружу, когда от этого есть какая-нибудь выгода.
Схожесть мыслей обоих юношей особенно ярко подчеркивала бессмысленность войны. Берти вполне мог родиться Юргеном, и наоборот. Что за прихоть судьбы определяет, кому кем быть и где жить? Те два дня в лесу навсегда изменили их жизнь; научили самостоятельно мыслить и показали, что в людях ценнее всего честность и общность интересов. Они не стали записывать свои адреса на бумаге: слишком боялись, что их найдут и обвинят в шпионаже или сотрудничестве с вражеской стороной. Но Берти сочинил короткую песенку, благодаря которой они запомнили адреса друг друга навсегда. Они расстались вечером второго дня. Позже Берти узнал, что Юрген сам выстрелил себе в ногу, чтобы по состоянию здоровья вернуться домой. Через несколько месяцев, проведенных в военном госпитале, он уехал в родной город. А Берти еще целый день искал своих товарищей. Уходя, он оставил их спящими у танка, а вернувшись, увидел мертвыми: в тот июльский день они уснули навечно: их перестреляли во сне.
Интересно, каково было семнадцатилетнему пареньку, когда он нашел тела своих мертвых товарищей? Берти винил себя, ведь его не было рядом с ними. К чувству вины примешивалось и удивление: как это вышло, что обычная потребность организма спасла ему жизнь. Он сел на камень и разрыдался. Потом верх над эмоциями взял инстинкт самосохранения, и Берти понял, что сам находится в опасности. Он вернулся в танк и вызвал подмогу. Он понимал, что в гибели друзей, скорее всего, виноваты соратники Юргена, и поразился горькой иронии судьбы, которая держит каждого из нас в своих крепких издевательских объятиях. Он решил взять у каждого из погибших по какой-нибудь личной вещи, чтобы передать их родным по приезде домой. В ожидании подмоги он сидел за танком (так, чтобы не видеть тела друзей) и тихо напевал:
В городе Берлине,
В начале Фридрихштрассе,
В доме номер восемь, —
В начале, не в конце! —
Поселился добрый,
Славный Юрген Гебер,
У него на двери
Табличка с буквой «Ц».
Когда война закончилась и Юрген с Берти оказались в безопасности родных домов, они начали обмениваться письмами и фотографиями, отслеживая повороты судьбы друг друга. Но вживую они так больше никогда и не встретились, опасаясь, что это разрушит магию тех двух дней в лесу. Юрген стал художником и в 1961 году перебрался из Восточного Берлина в Западный — всего за несколько дней до того, как город разделила стена. Берти стал композитором. В детстве мы с Сэмми вовсю распевали песенку про Юргена Гебера — для нас она была столь же обычной, как «Твинкл, маленькая звездочка» для других детей.
Папа наклонился и взял меня за руку.
— А теперь я расскажу тебе конец этой истории.
На моем лице, видимо, отразилось удивление, потому что папа мягко потрепал меня по руке и улыбнулся. Он рассказал, как осенью 1973 года в Лондон приехала Хельга, вдова Юргена, чтобы поведать папе о смерти его друга от рака и подарить одну из картин покойного. На ней был изображен юноша в военной форме, мирно уснувший в тени дерева — именно таким Юрген впервые увидел папу в том итальянском лесу и написал его портрет много лет спустя с потрясающей точностью и правдоподобием. Мне была знакома эта картина; она висела у папы в кабинете рядом с фотографией, на которой мы с Сэмми изображали идеальных детей. Для Хельги папа был тем же юношей из далекого итальянского леса, что и для ее мужа, и они быстро стали любовниками. Их объединило общее горе, а судорожный, поспешный секс вернул им молодость и не позволил памяти о Юргене умереть. Хельга была еврейкой, и Юрген всегда шутил, что он таким образом искупает вину за злодеяния соотечественников. Столь вызывающий выбор, конечно, отвратил от него родственников, но все же не был очень уж дерзким, учитывая потрясающую внешность Хельги. В первую их встречу перед папой предстала высокая рыжеволосая женщина чуть за сорок, с соблазнительным бюстом и пухлыми губами, как у Риты Хейворт. Английским она владела в совершенстве и лишь иногда, когда проглатывала буквы или чересчур четко выговаривала отдельные слова, ее родной язык выдавал себя.
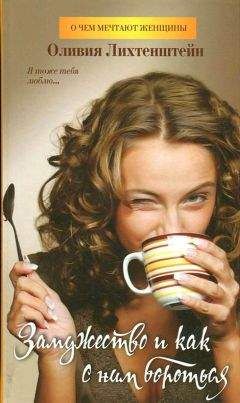
![Даниэль Дефо - Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](https://cdn.my-library.info/books/19937/19937.jpg)