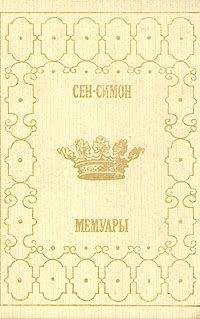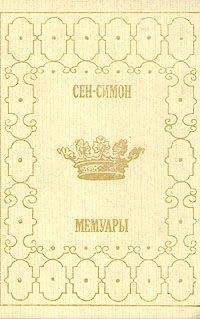— …и моя внучка Грир.
Я подняла взгляд, осознавая, что все это время дедушка Лео представлял собравшихся за столом Эшу и Мерлину. Мне вдруг захотелось, чтобы на мне было что-то менее девчачье, чем розовое платье до колен с аккуратным бантом на спине. Мне бы хотелось приподнять волосы, использовать блеск для губ и еще что-то, чтобы почувствовать себя свежее и красивее. Вместо этого я ощутила себя незащищенной и слишком юной, когда Эш взглянул на меня.
Он застыл на месте — всего на секунду, — его глаза вспыхнули зеленым огнем, прежде чем вернуть свой привычный изумрудный цвет. Затем он искренне мне улыбнулся, сказав легким и уверенным голосом:
— Грир. Рад снова тебя видеть.
Снова.
Он помнит.
Я вздохнула и тоже улыбнулась — улыбкой, которая казалось слишком сомнительной, возбужденной и слишком обнадеживающей.
— Да. Я тоже рада видеть тебя.
Затем я поднесла бокал к губам, надеясь, что никто не заметит мою дрожащую руку.
Обед продолжился и Мерлин объявил, что сегодня состоится вечеринка по случаю его сорокового дня рождения. После все вернулись к обсуждению политики, несмотря на то, что Мерлин остался за столом, позже окончательно перешли от обсуждения мелочей на выборах до более интересной темы. Мерлин спросил моего дедушку, поддержит ли он когда-нибудь кандидата в президенты от третьего лица, и за столом разгорелись естественные дискуссии, которые свойственны всем политикам.
Но даже это не отвлекло меня от близости к Эшу. Он говорил мало, в основном, слушая, но вступая в обсуждения; он всегда был настолько лаконичен и проницателен, что даже эти люди, потратившие почти всю жизнь на подобные дебаты, не могли найти соответствующего ему ответа.
Каждое слово, произнесенное Эштоном, оставалось у меня в памяти, словно его мнение о дееспособности стороннего кандидата были тайными откровениями о себе. Я из-под ресниц следила за каждым его движением. Как выглядела его рука, пока он зажимал между пальцами бокал; как держался совершенно неподвижно, спокойно слушая мнения других — исключение легкие кивки в знак согласия, — он научился этому не в зале суда или палате законодателей, а в бою. Спокойствие, которое может спасти от винтовки снайпера, было умышленным и непоколебимым. Спокойствие, при котором можно уловить движение ветра, шелест листьев и вдох. Спокойствие, пронизанное терпением.
Хищным.
Если Эш когда-нибудь станет политиком, он «обрежет» этих людей, как садовые ножницы расправляются с сорняками. Согнул и сломал, прежде чем они бы поняли, что происходит.
Я не была спокойной. Восприятие — да. Терпение — нет.
Это было агонией — быть так близко к Эшу, видеть, как его плечи вздымаются при дыхании, каждый изгиб его пальцев, слышать каждое богатое, глубокое смыслом слово, и знать, что я ничего не могу сделать с бурей внутри меня. И никакого выхода из этой неугомонной боли, от этого мучительно беспокойного легкомысленного чувства, скручивающегося у меня в груди. В любой момент я могла потерять контроль, меня накроет.
«Неужели ты действительно помнишь меня? — я запнулась, наклонившись вперед. — Ты помнишь наш поцелуй? Я — да. Я помню, как ты заботился о моем порезе; помню, как приказал не шевелиться; помню, как прижал к стене. Я мечтала об этом годами, и все еще мечтаю. Думала, что мне все равно; я пыталась спрятать эту девушку, пыталась стать кем-то другим. Но теперь, встретив тебя, я не думаю, что это в моих силах. Я не думаю, что смогу хотеть кого-то еще. И не думаю, что хочу менять ту девушку, которой ты управлял.
Я снова могу порезаться для тебя.
Дай мне снова сделать это для тебя».
И, Эштон словно услышал меня, будто мои мысли коснулись его. Он повернул голову и встретил мой взгляд. Его пальцы почти незаметно сжались на бокале, и я представила, как они стянут мои волосы, скрутят бело-золотые пряди и, откинув голову назад, он укусит меня за шею.
Я затаила дыхание при этой мысли, оторвав взгляд от его лица. Нужно уйти. Я не могла быть мокрой, грязной и задыхаться от чувств за этим столом — не рядом с этими людьми, не рядом с моим дедушкой, не тогда, когда источник моих пыток так близко.
Я наклонилась к дедушке.
— Не возражаешь, если я немного погуляю по музею? — тихо спросила я.
— Конечно, милая. Я думаю тебе скучно до смерти. Я напишу тебе, когда будем уезжать.
Благодарность наполнила меня, и я быстро дала ему поцеловать меня в щеку.
— Спасибо, дедушка.
Я отодвинула свой стул и извинилась, практически шепотом, стараясь не смотреть в глаза Эшу как до этого. Несмотря на это, уходя, я чувствовала его взгляд на своей спине и мне хотелось выглядеть соблазнительной сзади, чтобы быть уверенной, что он будет смотреть мне вслед — на мои ноги, бедра или на волосы, — но я не могла этого знать. Я быстро вышла из ресторана, тяжело дыша, идя через двери, прямо в музей. Что-то внутри меня вышло из колеи и изо всех сил боролось, пока я находилась в невыносимой близости с ним.
Заплатив за билет в музей, я взяла небольшую брошюру с картой галереи, и вспомнила обо всех своих словах и действиях. Я как-то унизила себя? Неужели я слишком долго смотрела на него? Говорила, затаив дыхание? Я не могла винить людей за столом, считающих меня смешной, особенно Мерлина, который, по необъяснимой причине, не нравился мне, но я не хотела, чтобы особенно Эш считал меня дурочкой. Без сомнения, он бы, так же как и я, нашел это забавным.
Бродя по галереям, я ничего не видела, не замечала. Все мои мысли были заняты Эшем. Я даже не взглянула на карту в руке, и поэтому понятия не имела, куда забрела, очутившись в закрытом дворике, окруженном статуями. Я был одна, и солнечный свет, мерцающий на камне, напомнил освещение церкви. Было так тихо, что я могла будто слышать статуи — мрамор, из которого они состояли, такой живой, как сам человек, он словно дышал, пока на нем оседала пыль, а их создатели были давно мертвы.
Я успокоилась.
Я остановилась перед одной статуей, выделяющейся тонкой работой — молодая женщина в мантии и вуали, в одной руке держала бубен. Что-то было в ее лице, удрученное и немного удивленное — или, может быть, из-за инструмента, что она вяло держала в своей руке. Казалось, будто ее душа витала вдали от тела. Будто она развалится, если попытается двинуться или заговорить.
Я могла лишь посочувствовать.
— Это дочь Иеффая, — раздался голос Эша позади меня.
Я так погрузилась в скульптуру, что не услышала шагов, и я повернулась, скрывая удивление.
— Что? — спросила я, надеясь, что в моем голосе не слышно паники и возбуждения, которые захватили меня.
— Иеффай, — сказал Эш, кивнув на статую, и делая шаг ко мне. Свет отразился от его больших часов на запястье, когда он засунул руки в карманы. — Он был судьей в древнем Израиле, военачальником, сражавшимся с аммонитянами, дав обет богу. Если он выиграет битву со своими врагами, то предложит первое, что выйдет из его дома, когда он вернется… это будет жертва всесожжения. Я дам тебе одну подсказку: кто-то вышел из дома, встречая его.
— Его дочь, — печально сказала я, чувствуя отвращение, вертевшееся на языке.
— Его дочь, — подтвердил Эш. — Она вышла на танцы, желая сыграть на своих инструментах. Увидев ее, он отчаялся, разорвал свою одежду, но, когда сказал ей о своей клятве, она не позволила ему отказаться от слова к Господу. Она попросила два месяца в горах с женщинами, чтобы «оплакать свою невинность».
— Чтобы оплакать свою невинность, — повторила я. — Как же я ее понимаю.
Его рот дернулся, но я не могла понять, улыбался он или хмурился.
— И затем она вернулась к отцу. В Библии лишь говорится, что он выполнил свою клятву… там нет подробностей, будто священники, писавшие эту историю, знали, как жестоко это было даже для тех времен. И после каждый год, устраивался праздник в честь женщин, которые собирались вместе на четыре дня, чтобы оплакать ее смерть.
— И это все? — удивленно спросила я. — Он убил свою дочь и сжег ее тело? И все из-за того, что он дал клятву на поле битвы, к которой она вообще не имела никакого отношения?