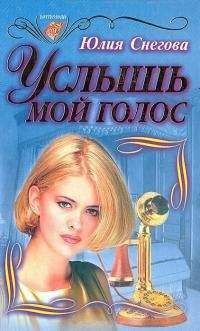Снова повисает дурацкая пауза.
К счастью, за поворотом нас встречает двор с яркими клумбами в палисадниках и кустами шиповника у деревянных скамеек.
Под осуждающие взгляды местных бабушек Паша невозмутимо распахивает металлическую дверь с неисправным домофоном, пропускает меня в прохладу чужого подъезда, и я становлюсь чуть ближе к цели.
В подъехавшем лифте мы, не сговариваясь, занимаем противоположные углы — Паша рассеянно пялится на цифры голубого табло над рядами кнопок, а я не могу оторваться от его напряженных мышц, сжатых губ и мрачного цепкого взгляда.
Метаморфоза, произошедшая с ним за полгода, пугает.
Паша больше не милый мальчик, что сходу решал наши проблемы и с ангельской улыбкой совершал огромные глупости. Он какой-то… замороженный.
Я вздрагиваю.
Да чтоб меня… Он же напоминает Ника!
Уясняю и перевариваю этот факт, но металлический голос объявляет номер самого верхнего этажа, и серебристые створки разъезжаются.
Паша шагает к лестнице, я следую за ним и тут же впадаю в ступор — горячие ладони привычно ложатся на талию, легко поднимают меня и подталкивают к открытому люку. По сломанному телу проходит разряд, я едва не роняю трость, упрямо карабкаюсь наверх, и Паша, убедившись, что я больше не нуждаюсь в поддержке, тут же убирает руки. Покачиваясь, я стою на черном мягком рубероиде, ветер треплет разноцветные пряди, глаза слезятся, что-то бешено бьется о ребра.
Он тоже выбирается на крышу, отходит к ржавому ограждению и замирает, обозревая виды.
Трясу головой, пытаюсь справиться с нахлынувшими чувствами, но не могу — его прикосновение столько долгих месяцев спустя снова столкнуло меня с обрыва.
Я люблю его. В своих руках он до сих пор держит мое сердце и волен выбросить его и разбить.
За краем бетонной плиты, частично разрушенной дождями, открывается необъятный простор: серые строения в пене зеленой листвы, лента шоссе и зеркало пруда у горизонта.
Этот пейзаж напоминает густой лес и озеро, которыми мы с Сорокой любовались с холма в закатные часы. Мне даже на мгновение кажется, что он здесь — отрешившись от суеты, наблюдает за ходом больше не властного над ним времени…
Внизу урчат моторы автомобилей, отсветы алого солнца блестят на стали поручней и антенн, встревоженные птицы сигают с проводов и разрезают воздух ножницами острых крыльев.
Трогаюсь с места и бреду к невысокому кирпичному сооружению, испачканному граффити и сажей от спичек.
Видение взрывается чистым восторгом, пьяной слабостью и прохладой металла, сжатого в пальцах. Это здесь. Сорока нацарапал послание здесь.
Я падаю на колени, шрамы тянут и жгут.
Заправляю за уши растрепанные волосы, склоняюсь над кладкой, нашариваю в кармане телефон и включаю подсветку.
На кирпичах, под слоем пыли, разводами едкой зеленой краски и плесени я различаю еле заметные буквы, пережившие много зим и лет.
«Никогда не забывай, кем ты был, когда был счастливым.
21.06.2003.
Сорока was here».
Снова и снова вчитываюсь в слова, оставленные Сорокой, глажу их ладонью, ощупываю каждую выемку и дрожу, словно он сам ожил передо мной, стал осязаемым и дал возможность к себе прикоснуться.
Но радостное волнение сменяется горьким разочарованием.
Устало сажусь на шершавый рубероид и смотрю в небеса, что видел когда-то Сорока.
Даже если я уломаю Ирину Петровну простить меня, приеду в деревню и разыщу автора этого изречения, он все равно не сможет прояснить его смысл.
Мертвое — мертвым. Живое — живым. Может, это и было главным его посланием?
Может, я должна забыть его и двигаться дальше по миллионам дорог?
— Помнишь, что мы делали здесь в прошлый раз? — Паша бесшумно опускается позади и обдает ароматом знакомого парфюма.
Я не оглядываюсь, но по коже бегут мурашки.
— Да. Мы пили вино из горлышка, а Стася рисовала, — отрезаю раздраженно. Я не намерена устраивать ностальгические посиделки и обсуждать с ним прошлые прегрешения.
— Нет, тогда Самолетика не было с нами. — Паша называет мою сестру ласковым прозвищем, которое сам же и прилепил, и я каменею.
Тогда ее здесь действительно не было — были только мы вдвоем.
Не хочу отвечать. Не хочу об этом даже думать.
Теплые сильные руки обвивают мои худые плечи, я сопротивляюсь и вырываюсь, но не имею возможности сбросить их. Закрываю глаза, смиряюсь, расслабляюсь… И обнаруживаю себя в правильном, гармоничном, совершенном мире, где все и вся находится на своих местах.
Стук сердец в унисон. Мечта. Любовь. Вечность…
Я схожу с ума.
— Ты считаешь это нормальным? — подаю голос, но он срывается.
— Да, — выдыхает Паша в мои волосы.
— После всего, что случилось, ты считаешь это нормальным?!
— Да.
Шрамы горят под одеждой. Отчаяние вырывается стоном. Я хочу, чтобы Паша освободил меня отрицанием, и продолжаю подводить его к нужному мне варианту:
— Ты предпочитаешь носить розовые очки и делать вид, что все хорошо? — Выворачиваюсь из объятий, переношу вес на трость и встаю, но Паша мгновенно вырастает рядом.
Мы оказываемся лицом к лицу, я вижу его губы слишком близко.
Поднимаю взгляд и тону в глазах, полных отчаяния, незаданных вопросов, невысказанной боли и злости. В голове гудит.
…Сейчас он убьет меня.
Но Паша подается вперед и снова крепко меня обнимает.
Судорожно вдыхаю его тепло, тонкий запах мяты и хвои и что-то еще — родное и нужное, как кислород. Колени подкашиваются.
— Мои родители уехали. Пойдем ко мне? — Твердая грудь вибрирует под ухом, стук сердца, живущего в ней, убаюкивает, усмиряет страхи, распаляет томление, отключает мозг.
Паша приглашал меня к себе и раньше. Что плохого в том, чтобы зайти к нему в гости еще раз?
Ведь возвращение в черное нутро моей пустой квартиры по-настоящему пугает, а между нами уже ничего не может произойти.
* * *
34
Я знаю, так быть не должно, мы не заслужили счастья.
Отношения с Пашей — это наш эгоизм, неприглядная сторона, возымевшая верх над совестью и моралью, ошибка, приведшая к страшным последствиям.
Но он заслоняет меня от усилившегося ветра, невесть откуда притащившего клочья первых туч, не дает замерзнуть, не дает опомниться и возразить.
— Мать наготовила на целую роту, — продолжает он спокойно и просто, я слышу, что он улыбается, — они с отцом уехали на дачу, а мне с этим жить. Там все, что ты любишь. Даже тот несъедобный салатик из яблок и чеснока.
В самые тяжелые времена безденежья и голода, когда у Стаси не было заказов, а меня выгоняли с очередной подработки, Паша тайком таскал приготовленную мамой еду и смеялся над моими вкусовыми извращениями, пока мы с сестрой поглощали ее на своей убогой кухне. Те времена, полные надежд и планов, навечно остались в памяти звоном апрельской капели…
И я сдаюсь — зарываюсь носом в тонкую ткань светлого свитера, обхватываю талию Паши и чувствую его пальцы в своих растрепанных волосах. Это как вернуться домой.
Рыдания сотрясают тело, слезы оставляют мокрые разводы, я умираю.
— Пойдем? — тихо предлагает Паша, и я шепчу:
— Ладно.
Ветер раскачивает ржавые антенны — те скрипят и стонут, серое одеяло стремительно укрывает небо, встревоженные стрижи дребезжат и пружинами срываются в бездну воздуха, света и надвигающегося дождя.
Паша размыкает объятия, идет к выходу, останавливается и ждет.
Я мешкаю — смотрю на его силуэт на фоне отчаянно яркого заката и снова теряюсь.
Паша стал до дрожи, до остановки сердца красивым. Но другим.
Другим…
Неясная догадка, не оформившаяся в мысль, шевелится в подкорке. Сорока привел меня сюда не просто так.
Сорока и обещание, данное ему — вот что до этого момента удерживало меня на поверхности, и я не должна отступать.
— Подожди. Я сейчас! — Отключаюсь от морока, вызванного Пашиным присутствием и, опираясь на трость, возвращаюсь к лифтовой шахте.