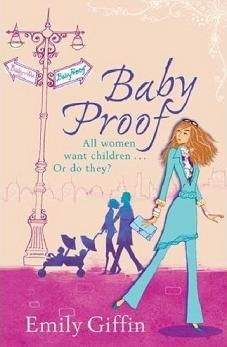Я хихикаю, и мама оборачивается посмотреть, что меня так рассмешило.
Джесс тут же принимает серьезный вид, проявляя недюжинный интерес к какому-то рекламному проспекту.
Мама поворачивается обратно ко мне и продолжает:
– Я уже отщелкала целую пленку с Джесс, пока мы тебя ждали. Но это не для задания, а просто так, от нечего делать. Джесс очень фотогенична, не правда ли?
– Угу, – соглашаюсь я. Джесс действительно великолепно смотрится почти на всех снимках, что я видела. Вероятно, тут дело в симметрии ее лица: я однажды читала, что именно симметрия черт делает человека красивым. В статье утверждалось, что даже младенцы охотнее тянутся к людям с симметричными лицами.
– Твой портрет – вот мое задание, – говорит мне мамуля.
По ней заметно, что она жаждет услышать от меня вопрос о сути этого задания. Капитулирую и спрашиваю:
– А в чем состоит твое задание?
– Я ведь говорила тебе о фотокурсах?
Киваю, а сама думаю: «Всего-то с десяток раз».
– Так вот, сейчас мы работаем над портретами.
– Звучит интересно, – замечаю я.
Мама не улавливает сарказма в моем голосе и продолжает:
– Да. Это очень весело. Только довольно трудно ухватить мимолетные эмоции на лице модели.
– Еще бы! Не сомневаюсь.
– Поэтому я пришла к тебе. Я выбрала тебя своей моделью.
Полагаю, ожидается, что я приду в дикий восторг от оказанной чести, но я протестую:
– Почему бы не снять детвору Мауры? Или того же Дуайта?
– Потому что... – она запинается, словно скрывая неприглядную правду.
Джесс энергично кивает и изображает новый жест – что-то вроде: «Внимание!».
– Нам задали сфотографировать страдание, – вздыхает мама и хмурится, словно несет тяжкое эмоциональное бремя на собственных плечах.
Чувствую, что непроизвольно прищуриваюсь.
– И ты решила, что для демонстрации страдания тебе могу пригодиться я?
– Клаудия, дорогая, пожалуйста, не выставляй колючки.
– Я и не выставляю, – огрызаюсь я, прекрасно сознавая, что ухожу в глухую оборону.
– Я хочу запечатлеть твою боль.
– Нет у меня никакой боли.
– Разумеется, есть, Клаудия. Ты страдаешь из-за Бена. Я все знаю о Такер, – шепчет она.
– У меня все хорошо, – отпираюсь я.
– Нет, юная леди, не хорошо. Совсем не хорошо.
Джесс делает такое лицо, словно на нее надвигается грузовик, затем поднимается и уходит – вероятно, звонить Трею.
– Сейчас тебе очень больно, больно вот здесь, Клаудия, – причитает мама, нежно прикладывая обе ладони к своему сердцу. – Я твоя мать. Я все чувствую.
– Мама, мне действительно сейчас не до фотографий.
Она поджимает губы, сверлит меня взглядом и качает головой. Потом заправляет новую пленку в фотоаппарат, прикручивает чудовищных размеров объектив и нацеливает его на меня.
Я выставляю руку перед лицом в защитном жесте.
– Перестань, мам.
Щелк. Щелк.
– Мама! – негодую я. Потом вдруг понимаю, что матушка только того и хочет, чтобы заполучить страдающую, разгневанную Клаудию, беру себя в руки и куда более спокойно добавляю: – Почему бы тебе не сфотографировать Дафну?
Чувствую себя слегка виноватой за этот совет, но затем догадываюсь, что именно Дафна, скорее всего, разнесла слухи. И, кроме того, Дафна более терпимо относится к матери. Они общаются чуть не каждый день.
– Ты намекаешь на ее бесплодие? – озадаченно спрашивает мама, словно бесплодие не более чем легкая напасть по сравнению с разводом. – Это не годится. Нет горя сильнее, чем от разбитого сердца.
Хочу опровергнуть ее утверждение, но не могу, поэтому коротко огрызаюсь:
– Мое сердце совсем не разбито.
– Ну да! Конечно же, разбито.
– А как же Маура? У них со Скоттом постоянно что-то не ладится, – не унимаюсь я, понимая, что с тем же успехом могла бы толкнуть свою вторую сестру под автобус – хотя, а вдруг это она проболталась про Такер?
– Маура не любит Скотта, – парирует мама. – Между ними никогда не было того, что чувствовалось между тобой и Беном. Вы с Беном действительно любили друг друга. И полагаю, ты до сих пор его любишь, – заявляет она, опять наводя на меня объектив. Прищурившись, легким движением запястья она настраивает свою пушку.
Щелк. Щелк.
– Мама, довольно!
Щелк. Щелк. Щелк.
– Я не шучу, мама! – кричу я, и когда она встает, чтобы снять под другим углом мой скорбный профиль, я ощущаю невероятную печаль пополам с гневом. Я прячу лицо в ладони, призывая себя не плакать, призывая себя не служить доказательством маминой правоты. Подняв глаза, вижу в дверном проеме Джесс, которая смотрит на меня с немым вопросом: «Нужна помощь?» Трясу головой: мне никто не поможет. Джесс с обеспокоенным видом уходит. Между тем мама заправляет новую пленку и опять накидывает ремешок камеры на шею.
Меня снова захлестывает чистый гнев, и я цежу:
– Не смей больше меня снимать. Я твоя дочь, а не подопытный кролик.
Мой голос жутко спокоен, но есть в нем нечто такое, что меня саму почти пугает. Интересно, а мама заметила? Если она вообще меня слушает.
Внезапно я понимаю, что если эта женщина, которая волею судеб произвела меня свет без малого тридцать пять лет назад, сейчас щелкнет затвором и постарается извлечь выгоду из моего горя, я навсегда вычеркну ее из своей жизни. Не стану с ней больше разговаривать. Не соглашусь с ней встретиться ни при каких обстоятельствах, включая прощание у смертного одра.
Конечно, меня и раньше искушали подобные мысли, но я никогда им не следовала. В конце концов я всегда уступаю. Не из дочернего долга, не из любви к матери и не потому, что нуждаюсь в ее участии, а потому что не хочу, чтобы мама ставила мне диагноз. А если я перестану с ней разговаривать, она непременно припечатает меня чем-нибудь жутким. Всякий раз, читая о знаменитостях, отдалившихся от своих матерей (Мег Райан, Дженнифер Энистон, Деми Мур – помню их наизусть), я думаю, что такое поведение во многом характеризует не только дочь, но и покинутую мать. Но какой бы жестокий поступок не совершила мать, именно дочь выставляют непримиримой, категоричной, бесчувственной особой.
Моя мать – неприятный, докучливый человек, но ведь это не достаточно существенный повод, чтобы совсем списать ее со счетов. В душе я хочу избежать окончательного разрыва, но сейчас я оказалась на распутье. На этот раз я настроена очень решительно. Если я смогла развестись с любимым мужчиной, то смогу порвать и с этой женщиной.
Мать хмурит брови и окидывает меня заученным сострадательным взглядом – ее лучшее траурное выражение лица. «Я знаю, каково тебе. Я здесь, чтобы помочь» и прочая подобная ерунда. Несмотря на явную нехватку искреннего сочувствия (даже для собственных дочерей), мама в совершенстве овладела искусством притворяться, будто наши проблемы ее беспокоят. Но это не так. Люди, не состоящие с ней в родстве, могут счесть ее обаятельной, прямодушной, отзывчивой. Но я-то знаю, какая она на самом деле.
Мало-помалу гнев сменяется любопытством. Насколько плоха моя мать? Рискнет ли она снова нацелить на меня объектив, даже видя, что я вот-вот расплачусь? Даже вопреки моему недвусмысленному запрету? Я почти хочу, чтобы она нажала кнопку фотоаппарата в последний раз. Почти хочу расставить все точки над «i» в нашей игре в «дочки-матери». Но она замирает, затем опускает фотоаппарат и кладет его на колени. Никому никогда не удавалось помешать маме делать то, что ей хочется, и я не могу сдержать ликования. И безграничного удивления.
Она крепко сжимает губы, затем говорит:
– Прости.
Ее извинение приносит и облегчение, и разочарование. Не могу припомнить, чтобы мама хоть раз попросила прощения, хотя обид мне нанесла предостаточно. Точнее, она произносила формальные извинения, но всегда перекладывая вину на другого или добавляя оправдывающее ее «но». Мне не хочется так легко спускать ей обиду, но я совершенно опустошена. Поэтому сдаюсь.
– Хорошо, мама.
– Действительно хорошо? – уточняет она.
Закатываю глаза и говорю «да».
Обе молчим, пока она неуклюже складывает фототехнику. Когда все уложено в сумку у ее ног, она глядит на меня и тихим, но искренним голосом повторяет:
– Прости меня.
Я отвожу взгляд, но все равно чувствую, как она не сводит с меня глаз. Чувствую, как сильно она желает, чтобы я ответила ей. Простила ее. Обняла ее.
Но я ничего такого не делаю, а просто сижу и молчу.
Спустя какое-то время мама произносит:
– Я хочу тебе кое-что сказать, Клаудия.
– И что же? – интересуюсь я, ожидая услышать какую-нибудь очередную чепуху. «Завтра проглянет солнце. Тьма сгущается перед рассветом. Жди, и забрезжит лучик надежды». И почему так много банальностей зиждется на небесных явлениях?
Но мама прокашливается и предупреждает: