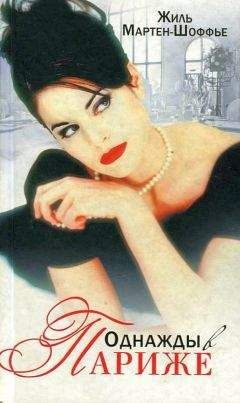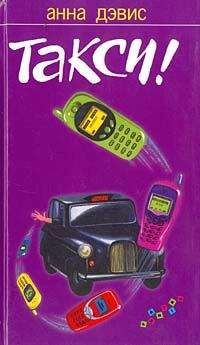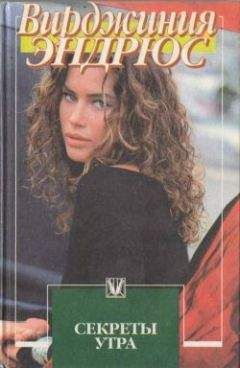— Извините меня. Не обижайтесь, но, поскольку я абсолютно ничего не чувствовала, я подумала, что у вас руки в перчатках. То есть не надо продолжать. У меня нет эрогенных зон на ладонях. К тому же я не желаю ущемлять интересы Дженнифер.
Какое разочарование! Она так и останется пришитой к этому евнуху Брюсу. Тем хуже для меня. И жаль, для нее: я не давал бы этой маленькой воображале спать до мая. Ее подбородок юной девочки, которая никогда не пила ни капли алкоголя, ее шея, как у птицы, ее волосы, блестящие, как у китаянок-наложниц, заставили бы меня на стенку лезть. Но бесполезно об этом мечтать, она предпочитала изображать злючку. Это меня не так уж и смущало. Я тоже могу показать свои когти. С улыбкой я попросил Аньес не беспокоиться о том, что Дженнифер, возможно, станет ревновать меня:
— Она вас находит симпатичной. Ваш вид произвел на нее впечатление. За ужином ей очень понравились ваши брюки из черного атласа. Она считает, что на изящной девушке, скажем такой, как она, эти брючки очень хорошо бы смотрелись.
Аньес была похожа на меня. Она хорошо держала удар. Она расхохоталась, довольная, что со мной ей скучать не приходится. Еще лучше: поскольку ей нечего было делать в ближайшие три-четыре часа, она спросила меня, есть ли у меня на этот счет какие-нибудь идеи. У меня идей было полно. И все похотливые. Это ей явно не подходило. Наоборот, она хотела посетить музей этрусков, который находится в десяти — двенадцати километрах от отеля. Если я соглашусь ее сопровождать, она поедет со мной. Не стоит и говорить, что я не стал отказываться.
Не просите меня рассказать вам что-либо о цивилизации этрусков. До того как Аньес предложила осмотреть музейную экспозицию, я никогда и не слышал об этих предках древних римлян. Жизнь дикарей, которые обосновались в Умбрии три тысячи лет назад, мне глубоко безразлична. Я думал, что в то время они еще были людоедами. Вовсе нет. По дороге Аньес кратко рассказала мне о них. Знание истории было ее сильной стороной, несомненно. Я вспоминаю только, что этруски основали Рим, Помпеи и Капую, но неизвестно, когда и почему они перебрались в Тоскану. Карфаген был их союзником, римляне были их подданными, древние греки и галлы — их врагами. Вот и все! Как всегда, обрывки информации, светящиеся, как горящие спички, дают заметить ту или иную деталь сюжета, основной массив которого остается скрытым тьмой. Это меня не интересует. Напрасно История хвалится своей вечной молодостью, на мой взгляд, она просто пустомеля; но поскольку Аньес демонстрировала, что является любительницей исторических документов, зачем ей перечить? Она искренне полагает, что История полезна. Ее рассуждения о Французской революции во время нашего первого ужина показали эту ее убежденность: то, что произошло два века назад, непременно повторится. Такого рода пророчества кажутся мне глупыми. Когда Аньес принимает президента компании «Мерседес» за Людовика XVI, это почти так же глупо, как уподоблять Ле Пена[59] Гитлеру, чем грешат журналисты. Это в 1933 году в Берлине следовало остановить фашизм, а не в 1990-м в Любероне. Вы можете представить, что смотреть на растрескавшиеся масляные светильники и на заржавевшие щиты мне не так уж интересно. И, о чудо, мне удалось избежать этой добровольной повинности. Музей был закрыт. Ни один работник культуры в мире обычно не горит любовью к своей работе, но в Италии в феврале это особенно заметно. Нужно было приходить в музей только в воскресенье или в четверг, вот и все. Поскольку визит в музей откладывался, меня устроили бы любая пиццерия, кафе с террасой на открытом воздухе, любой трактир. Я не являюсь неутолимым созерцателем художественных ценностей, но Аньес буквально упивалась витринами, коллекциями и выставками. Любая разрушенная часовня — и она уже довольна. В конце улицы, несомненно, периода Кватроченто[60], в помещении старой церкви, Аньес нашла районный музей современного искусства. Она бросилась туда.
Не говорите мне о современном искусстве. После 1880 года я пас. Начиная с Клода Моне, я нахожу все картины плохо написанными. Никогда не известно, почему художник решил, что его работа над произведением завершена. Я, однако, не требователен, я просто хочу видеть красивые картины. Мне не удается прийти в экстаз при виде череды пылесосов и скульптур из скорлупы. Без диплома школы изящных искусств невозможно утверждать, где заканчивается надувательство, а где появляется какой-то смысл. Обычно по этому поводу я молчу. Я уже к этому привык. Само по себе место способствовало молчанию. Небольшой церковный неф, совсем пустой, с полом из каменных плит и кирпичными стенами. Оставалось только десять экспонатов, расположенных в зале как попало. Аньес прошлась от одного к другому, не обращая на меня внимания. Безумство соседствовало здесь с вульгарностью. На телеэкране шел черно-белый видеофильм: показывалась стрельба бомбардира по черному квадрату. Рядом с экраном на олеографии, в таких красках, как будто бы ее нарисовал ребенок, был представлен горный пейзаж с елями, водопадом и видневшимися вдали вершинами. Дальше — зеленый металлический ящик, который, казалось, был забыт здесь ремонтной службой, но на маленькой табличке рядом было написано, что он создан неким Вернером Рейтерером. Были еще статуэтка негритенка, сосавшего пальчик, две этажерки, заполненные книгами в обложках всех цветов радуги. И далее в том же духе. Я оставил Аньес разглядывать этот ангар смешных поделок и игрушек с сюрпризом, вышел наружу и стал ждать ее у входа. Мне пришлось набраться терпения: ей потребовалось около получаса, чтобы посмотреть весь этот базар. Мало того, прежде чем подойти ко мне, она сфотографировала своим мобильником олеографию. Это было чересчур, мне стало жалко Аньес, и я не постеснялся ей это сказать. Она восприняла это, вполне ожидаемо, как школьная учительница.
— Извините, Жан-Пьер, — язвительно сказала она, — но что непосредственно представлено на этом виде Альп?
— Это примитивное и глупое изображение пастбища, зажатого между двух утесов. Типа почтовой открытки, которую привозят из Швейцарии своей служанке.
С улыбкой на устах она спросила меня, случается ли мне открывать глаза или внимательно прислушиваться. Послушать ее, так я веду себя как медведь, который рушит все на своем пути, сам того не замечая. Это вызвало у меня раздражение. Я не против того, чтобы смешная жеманница принимала фонари за звезды[61], но пусть не требует, чтобы я ей подражал. Я послал ее пастись вместе с этими коровами:
— Кончайте разыгрывать это кино. Эта картина бесталанная. Художник ставит планку так низко, что ее почти не видно.