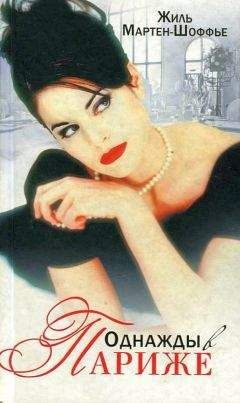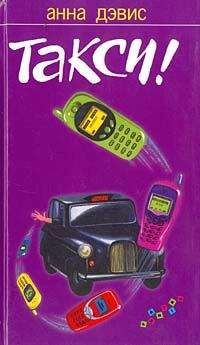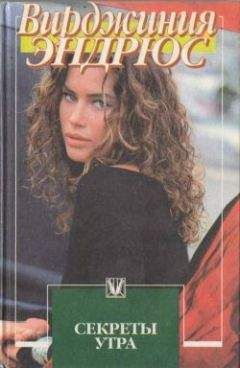— Кончайте разыгрывать это кино. Эта картина бесталанная. Художник ставит планку так низко, что ее почти не видно.
— Да, точно, вы абсолютно ничего не видите, — заключила Аньес.
После чего взяла меня под руку и привела к картине Филипа Майо. Не забудьте это имя, я запечатлел его в своей памяти навсегда. Аньес была разгневана. Она говорила совсем тихо, очень медленно, тщательно выговаривая каждое слово, будто обращалась к дебилу:
— Вы что, страдаете от дистрофии сетчатки? Два пика на переднем плане, этот водопад между ними, сосновый лесок чуть повыше, круглая поляна, которая доминирует на переднем плане, и две горы на заднем плане… Вы по-прежнему ничего не видите? Это две ноги, женский половой орган, лобок, живот и груди. Раскройте глаза, черт возьми! К тому же Майо, чтобы облегчить вам задачу, придал своей картине форму яйца, как будто вы видите все это через замочную скважину. Перед вами ловко придуманная, шутливая, полная юмора репродукция картины Гюстава Курбе «Происхождение мира», а вы… вы ничего не узнаете. Вы проходите везде как большая шишка, вы судите свысока, ничего не зная, и вы уходите, считая всех на свете ничтожествами. Откровенно говоря, это вы прискорбны.
У меня было такое впечатление, будто мне разрезали веки бритвой. Как я не увидел то, что хотел показать Майо? Внезапно эта этикетка для камамбера стала гравюрой в духе либертинажа. На протяжении веков художники обходили капканы цензуры, и Майо резюмировал все это в виде образа, очевидного, простого, поучительного и действительно забавного. Аньес мне заткнула рот. Я стал извиняться перед ней. Решительно, эта женщина произвела на меня большое впечатление. Но она не злоупотребляла своим триумфом. Она высказывала вслух свои суждения. Например, перед картиной, но также по поводу окружавших ее людей, например меня:
— Ваша проблема, Жан-Пьер, в том, что вы видите мир таким, как будто бы он окончательно застыл в определенном порядке раз и навсегда. Вы не наблюдаете за ним, вы считаете, что все знаете заранее. И вдруг — картина становится размытой.
Выйдя из церкви, мы прогулялись по деревне, дыша воздухом, почти не разговаривая. Через четверть часа Аньес попросила меня составить ей перечень десяти работ, выставленных в церкви. Я вспомнил только четыре. Аньес нашла это весьма показательным. Я тоже.
Внезапно при мысли, что я должен отвести ее назад в «Пелликано», у меня заныло в животе. Мне потребовалось десять долгих минут, чтобы осмелиться предложить ей остановиться где-нибудь по пути, чтобы пообедать. Напрасные муки: мне повезло, как будто бы я нашел подкову, — Аньес сама привела меня на площадь, где нас ждала гостиница с рестораном, идеальное место для любовных эскапад римских бизнесменов. И если на стенах репродукции Рафаэля висели в рамках, то пицца была замороженной. Это не имело значения. Аньес не хотела есть и хотела только выпить шампанского со своим салатом из помидоров. Шампанского у них не было. Мы остановились на местном игристом белом вине и лангустинах, таких свежих, что они еще прыгали в тарелке. Когда я поднял бокал за нашу дружбу, Аньес вновь заговорила тем слегка саркастическим тоном, который во многом составлял ее очарование:
— Не впадайте в романтику, Жан-Пьер. У меня такое впечатление, что вы влюбляетесь, как только переходите с тротуара на тротуар. Это уже не для нашего возраста. Ну, по крайней мере, не для вашего.
Ее голос звучал, как медленно текущая вода, ее взгляд скользил, как луч света, но это был ее трюк: тихонько приблизиться и оглушить вас. Потом она улыбалась вам улыбкой девушки, идущей к первому причастию, и наблюдала за вашей реакцией. Я в свою очередь включился в ее игру. Не считая себя сердцеедом, я тоже могу подать руку, любезничать и расставлять свои сети. Я без промедления перевел разговор на Брюса, моего лучшего врага. Она тут же поняла, к чему я клоню. Откровенность показалась ей более забавной, чем лицемерие.
— Брюс и я, мы любим друг друга, на основе простого принципа, но по разным причинам. Принцип — это взаимное влечение. Я нахожу, что Брюс красив, я знаю, что он умен, он божественно играет на пианино, и его голос меня просто околдовывает. Ему нравится, что я не использую макияжа, что я не ношу драгоценностей и что при этом я лучше выгляжу, чем увешанные бриллиантами рождественские елки из Нью-Йорка. А затем уже действуют задние мысли. Их так много, что предпочитаю не подходить к ним критически. Скажем, что я весьма предрасположена к очень богатым мужчинам, с которыми, как я предчувствую, я буду иметь достаточную свободу.
В этот момент Аньес сделала паузу. Пораженный ее признаниями, я наблюдал за ней молча, очарованный сочетанием в ней грации и цинизма. Ее очень бледная кожа и совсем черные глаза, ее темные волосы и чистая улыбка, ее элегантный наряд и ее столь мало пристойные рассуждения — передо мной был образец убийственной грации парижанки. Я перевел дыхание, когда она закончила чистосердечное признание, спросив меня:
— А вы были бы мужчиной такого типа, Жан-Пьер?
Рядом с ней я чувствовал себя дебютантом. Эта колдунья обладала докторской степенью по флирту. Мне лучше было разыграть роль простого парня, крестьянина с Дуная. Эта роль мне полностью подходит: ведь лисы хитры. Она подозревала это, это ей было по нраву, мы начали игру.
После недель ужинов наедине с Дженнифер у меня было такое впечатление, что взошло солнце. Мне больше не надо было самому задавать вопросы и самому на них отвечать. В первый раз за много лет я не испытывал неловкости из-за своего возраста. После этого продолжать так, чтобы все шло, как раньше, невозможно. Поскольку Аньес любит стычки, у нее дар находить сюжеты, которые могут вас рассердить. Говоря о церкви, которую мы посетили, и поняв, что у меня не подскочит давление, если она будет говорить о католической религии, которая мне вполне безразлична, она перевела разговор на секты. И на этот счет у меня тоже нет устоявшегося мнения, только слегка враждебная предубежденность. Этого Аньес было вполне достаточно. Поскольку я был скорее против сект, то она была открыто за них. Не то чтобы она любила гуру, но она ненавидела тех, кто нападает на них.
— Вся эта кампания против сайентологии раздражает меня. Их психотерапия некоторым приносит пользу, так же как молитвы дают облегчение христианам. Но в отношении сайентологов все возмущаются, искажают положения их доктрины, высмеивают их тезисы.
— Сказать по правде, я ничего не знаю об основных положениях сайентологии, но, как и все, задаю вопросы об их финансах.
— А почему тогда не поинтересоваться финансами христианской Церкви? На протяжении многих веков ее кюре и их епископы брали дань с Запада. Громадные богатства духовенства стали одной из причин Французской революции. У целых поколений семей Церковь отнимала их наследство. Церковные исповедники продавали бессмертие своей пастве в обмен на ее имущество. И никто ничего не находил, что бы сказать по этому поводу. Почему? Потому что деньги стали последним богом. Никто не может понять, что люди заботятся о своей душе, но все сочувствуют несчастью семей, у которых отнимают их сбережения.