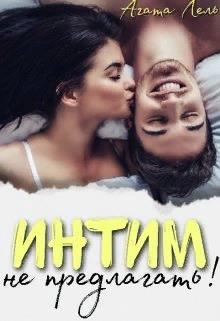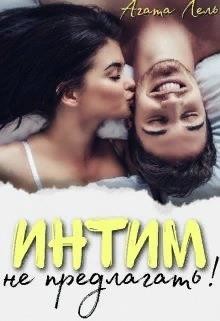— Что? Ты заболел? Чем?
— Забей.
— Ну а всё-таки.
— Температура.
— Высокая? Ты лекарства пил? Окно закрой — дует.
— Да нормально всё! — как-то слишком уж резко обрывает он и торопливо: — Ну пока.
— Пока-а, — разочарованно тяну, глядя как на экране прекращает бежать счётчик секунд.
Ерунда какая-то. Чтобы он осталось дома из-за обычной температуры? Судя по голосу — не при смерти, хотя и чем-то явно озадачен, или даже расстроен.
В душе закопался гнусный червяк беспокойства. И опять-таки: ну кто он мне, какое мне дело до его настроения? Но почему-то не могу перестать думать об этом коротком двадцатисекундном разговоре.
А вдруг сильно заболел и хорохорится? Лежит там один, бедный и немощный, стакан воды подать некому. Между прочим, это я его заразила, вроде как несу ответственность!
— Женька! Вот ты где, а я всюду тебя ищу, — Цветкова торопливо лавирует меж спешащими на пары студентами и машет мне рукой.
Хвостик на затылке, очки, любимая цветастая блузка и серые брюки. Из забот только курсовые да теории. Я замужем всего ничего, но мне кажется, что Анька была в какой-то совсем другой жизни. Будто этот фиктивный штамп сделал меня взрослее. Как глупо.
— Идём скорее, скоро пара у Веника. Желательно не опаздывать, — Анька цепляется за мой локоть и тянет к аудитории.
— У Веника? Вот чёрт, как назло!
— Ну да, приятного мало. А почему назло?
— Потому что мне срочно уйти надо, — и опережая расспросы: — по очень важным делам. Так и хочется важно добавить — семейным.
— А что случилось? Ты плохо себя чувствуешь?
— Теперь Малиновский заболел, вирус мутировал и поверг-таки железного Арни.
Анька цокает и озабоченно качает головой:
— А ведь я говорила ему эхинацею пить и носовые пазухи оксолиновой мазью мазать — не послушал! Вот и заразился!
Представила, как Малиновский по совету Цветковой послушно заталкивает в нос вонючую мазь, ходит в носочках из верблюжьей шерсти и вообще ведёт себя словно пай-мальчик и становится дико смешно.
Освобождаю руку и резко меняю курс.
— Ладно, я побегу, узнаю, что там с ним. Так-то хочется свои миллионы получить, вдруг не дотянет.
— Тьфу тебе! Я хоть этого мажора недолюбливаю, но видела, как он о тебе заботится, так что при всём желании не могу желать ему плохого. Же-ень, — кричит мне вслед: — Бульон ему свари куриный, из гузок желательно, чтоб пожирнее.
Послушно киваю и торопливо бегу на выход, пока не начались пары и у охранника дяди Славы не возникли вопросы, куда это я вдруг намылилась. А мне на объяснения время тратить некогда, мне ещё куриные гузки покупать. Хотя сначала надо выяснить, что это такое…
Преисполненная чувством долга спасти болеющего заруливаю в первый попавшийся на пути продуктовый рынок.
Знала бы я, какой сюрприз меня ожидает по приезду домой, я бы сто раз подумала, а надо ли мне это всё вообще. Включая несчастные миллионы.
Часть 19
Сегодня жарко. Очень. Везу через всю Москву пакет с разморозившимися гузками (лучше бы продавец не пояснял, что это такое) и переживаю, что маршрутка тащится слишком медленно.
Выходить больного — святая обязанность каждого мирянина, ибо всевышний велел не бросать в беде ближнего своего. Да, от скуки я таращилась в книгу соседки по душегубке и это оказалась библия.
Уставшая и взмокшая, оставляя после себя дорожку капель от растаявших куриных задниц захожу в дом и вижу картину: Николай Филиппович сидит на том же месте, что и несколько часов назад — на диване в гостиной, будто и не уходил. Только пиджак небрежно валяется на кресле, развязанный галстук болтается на шее в свободном полёте, а в руках вместо чашки кофе квадратный стакан чего-то тёмного и явно горячительного. И этот образ так сильно резонирует с собранным мужчиной которого я видела рано утром, что возникает глупая мысль: а он ли это вообще. Может, у них в семье завалялся ещё один синеглазый парень-плохиш, а я ни сном ни духом…
— Э-э, здрасьте. А где Богдан?
— У себя, — безразлично кивает наверх Малиновский-старший и делает большой глоток. С стакане характерно звякают льдинки.
Быстро поднимаюсь на второй этаж, открываю дверь в комнату и вижу, что младшенький сидит на вращающемся компьютерном кресле к выходу спиной, подозрительно низко уронив голову на грудь. Руки расслабленно висят вдоль подлокотников, длинные ноги вытянуты вперёд.
Я не вижу его лица, только вихрастый затылок и эти свисающие безжизненной плетью руки… Наутро сковывает необъяснимым страхом.
Закрываю за собой дверь и делаю пару робких шагов вперёд:
— Малиновский, ты жив там?
А в ответ тишина. Не по себе стало ещё больше.
— Богда-ан.
Ноль эмоций. Коленки сковывает цепями ужаса. Бросаю сумку на пол и на прямых палках стремглав несусь к растёкшемуся по креслу манекену.
— Малиновский! Да что с тобой? Ты спишь… что ли…
Действительно, спит. В ушах вставлены наушники и как-то подозрительно фонит спиртным…
Наклоняюсь к его безмятежному лицу и принюхиваюсь. Точно, виски или коньяк, что-то крепкое.
Неожиданно он резко распахивает глаза и, подавшись вперёд, целует меня в губы. Не по-французски, но достаточно страстно.
— Ой, прости, лапуля, мне показалось, что это Моника Беллуччи, — немного заплетаясь, бормочет он, натянув глупую сонную улыбку.
— Любишь женщин постарше?
— Люблю женщин с формами.
— А что же тогда на Ковальковой не женился? У неё твёрдая пятёрка и я сейчас не про оценки.
Губы до сих пор жжёт от его поцелуя. Чёрт знает что, но сердце колотится где-то в пятках, дыхание сбилось.
Это всё от неожиданности. Определённо.
— Там отец твой внизу примерно в таком же состоянии. На брудершафт пили? — киваю на оставленный на подоконнике стакан, точь-в-точь как у Николая Филипповича. На дне плавают две сиротливые льдинки. Вернее, то, что от них осталось. — Что это на вас вдруг нашло?