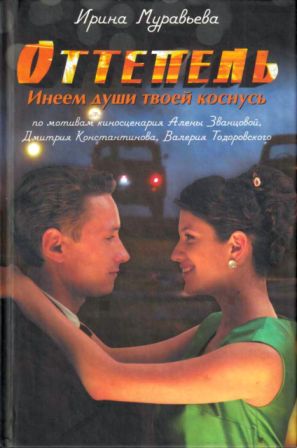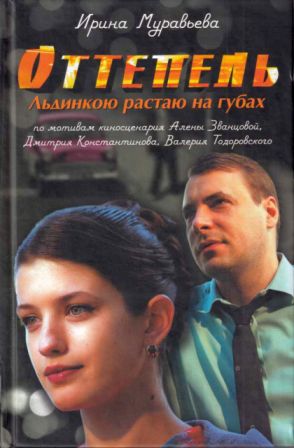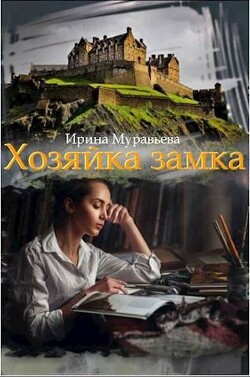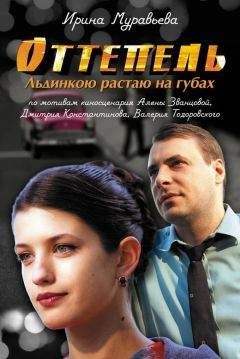Но нигде: ни дома, ни на работе, ни в компании друзей, ни на «Мосфильме» ему не дышалось так глубоко, так не перехватывало дыхание, как здесь. А при виде внезапных находок модельеров, которые могли вдруг соединить вот эту маленькую норковую шапочку, глубоко надвинутую на лоб Регины Збарской, тело которой считалось «объектом государственного значения», с темно-синими разводами на ее шарфе, — при виде такой вот находки он мог даже всхлипнуть от радости.
— Девочки! Можно я вам своих друзей с «Мосфильма» сюда приведу в перерыве?
Манекенщицы приветливо закивали лакированными прическами. В перерыве Санча привел сжавшуюся и бледную Люсю Полынину, веселую, красную Надю Кривицкую и Руслана, победителя сердец с пшеничными волосами. Лилиана Баскакова стрельнула в Руслана большими зрачками, и тот весь зарделся.
— А мужскую одежду у вас тут показывают? — поинтересовался Руслан.
— Еще бы! Конечно! Хотите, я вас познакомлю с художником? — задорно воскликнула Лиля Баскакова.
— На что я ему? — застеснялся Руслан. — Какой-то актер, начинающий только…
— А Санча о вас тут такое напел! Что вы просто будущий Грегори Пек!
— Ну, Грегори Пек — буржуазный, прогнивший… А я с Красной Пресни, я парень простой…
— Простой — это лучше, — решила Баскакова. — Пойдемте, пойдемте!
И продела свою белоснежную худую руку под его мощный локоть. Пичугин с какой-то тоской посмотрел, как уволакивают в темноту будущего Грегори Пека, и тихо сказал вслед Баскаковой:
— Тебе ведь на подиум скоро, Лиляша…
Люся Полынина рассматривала манекенщиц с таким видом, как будто ее привели в зоопарк и разрешили дотронуться до каждого зверя, уверив, что он не кусается.
— Надька, смотри, бальное платье какое! Аж сиськи видны…
— Это платье, — живо откликнулась не менее знаменитая, чем Баскакова, Валентина Яшина, — я собираюсь демонстрировать в Милане. Там будет показ бальных платьев. И нужно показывать много всего. Особенно тел.
— В Милане?! — присвистнула Люся Полынина.
Через пять минут вернулись Баскакова с Русланом и следом за ними человек приятной внешности, с аккуратно подстриженными усами, про которого Санча успел шепнуть Наде Кривицкой:
— Это Александр Игманд! Он шьет для членов ЦК!
— Саша, — мягко сказал Александр Игманд. — Одолжи мне своего молодого артиста на полчаса. Мой «манекен» расчихался ужасно. Наверное, простыл. А показать нужно всего пару костюмчиков.
— Руслан, ты согласен? — Пичугин тревожно взглянул на Руслана.
— А то! — отозвался Руслан. — Я всегда!
Через двадцать минут он уже щеголял по подиуму в элегантном светлом костюме и, если бы не его есенинское лицо, вполне мог бы сойти за Грегори Пека.
— Актер, одним словом! — вздохнув, сказал Игманд.
Надя Кривицкая вернулась к себе на дачу в восемь часов вечера. В голове ее был какой-то счастливый и пестрый сумбур, слегка напоминающий осенний листопад до начала дождей и холодов. В электричке она, закрыв глаза, видела себя в том самом бальном платье, которое собиралась демонстрировать в Милане Валентина Яшина. И платье ей шло! И все итальянцы, собравшиеся в каком-то освещенном огнями, немыслимо огромном дворце, рукоплескали ей, знаменитой на весь мир Надежде Кривицкой.
«Похудеть бы еще немножко! — томно подумала она. — И пусть Федя лопнет от ревности!»
На даче все спали: Маша в своей кроватке, мама, вчера прибывшая из Тамбова, домработница, умаявшаяся за день от засолки грибов, и две рыжие кошки. Не спал, правда, Федор Андреич. Надя равнодушно заглянула к нему в комнату и увидела, что муж сидит на диване, сжимая в руках непочатую бутылку водки. Она так и ахнула.
— Федя, ты ел? Обедали вы?
Федор Андреич бегло взглянул на нее и не ответил.
— Зачем тебе, Федя, бутылка?
— Затем! — ответил он грозно и вытащил пробку. — Затем, что я, Надя, живой человек! А ты надо мной издеваешься, Надя!
Налитые кровью глаза известного на всю страну режиссера Кривицкого, народного артиста и лауреата Сталинской премии, посмотрели на нее с яростью.
— Терпел-терпел! Хватит! Устал!
И он, рыча и всхлипывая, припал к бутылке. Но легче горной козочки, легче пушинки подлетела к нему располневшая после родов жена и с криком: «Не смей!» вырвала из его рук проклятую отраву.
Потом оба плакали, крепко обнявшись.
Асе Хрусталевой было тринадцать лет. Родители ее развелись еще до того, как она пошла в первый класс, и Ася привыкла к тому, что большую часть времени она проводит с мамой, а папа забирает ее к себе раз в две-три недели, и тогда наступает праздник. С мамой было всегда как-то тревожно, и Асе постепенно стало казаться, что маме она немного мешает. И хотя она изо всех сил хотела быть полезной: готовила маме обеды, завтраки, а иногда даже стирала мамины лифчики и трусы в их большой, сильно облупленной коммунальной ванной, мама часто раздражалась и смотрела на нее так, как будто именно она, Ася, виновата в том, что мамина жизнь все не складывается. Иногда, правда, наступали другие времена: мама вдруг словно бы опоминалась — она начинала проверять Асины уроки, сама, не дожидаясь вызова, шла в школу, чтобы поговорить с учителями, выстаивала многочасовую очередь в магазин «Машенька», где покупала Асе сразу два, а то и три платья. При этом она сама готовила обед и стирала свое и Асино белье в той же самой облупленной коммунальной ванне. Ася никогда не знала, в каком настроении мама проснется утром и какое выражение будет в ее глазах, когда она вечером вернется с «Мосфильма». Папа был совсем другим человеком. Когда она переезжала к папе, он брал ее с собой на студию, очень вкусно кормил в «стекляшке» или в «Шашлычной», два раза даже взял пообедать в Дом журналистов, хотя никогда никаким журналистом не был и прошел туда, показав усатому старику у входа свой мосфильмовский пропуск. И он с ней шутил. Иногда от его шуточек и рассказов она смеялась просто до колик. Вечерами он таскал ее на просмотры в Дом кино, где все женщины были так разодеты, что просто рябило в глазах. Она, гордая, сидела рядом с папой, и многие узнавали ее и восхищались тем, как она выросла. Самым большим горем в ее жизни было то, что родители не любили друг друга. Она готова была отдать все на свете, готова была даже к тому, чтобы каждый из них разлюбил ее, Асю, но только бы они опять стали мужем и женой, только бы жили вместе! Она не могла объяснить, отчего ей так важно, чтобы они жили вместе и любили друг друга, но душа ее болела, ныла, а необходимость молчать и скрывать свои переживания приводила к