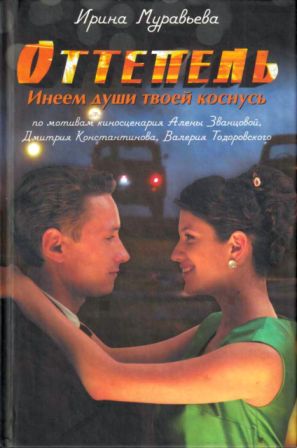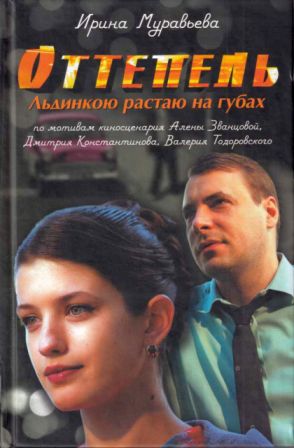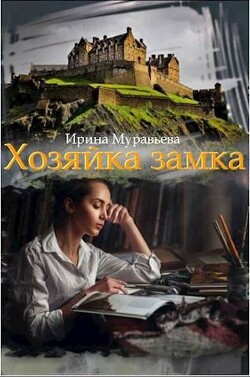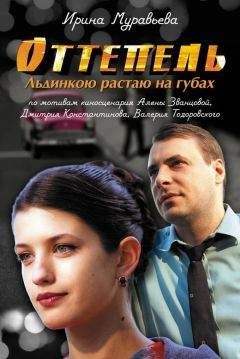тому, что она стала побаиваться любых откровенных разговоров и с мамой, и с папой: не дай бог, вдруг что-нибудь вырвется! Она не знала, что произошло на съемках в деревне, но, наверное, произошло что-то невероятное, чудо какое-то, потому что вскоре после съемок папа переехал на Шаболовку в их большую коммунальную квартиру, где обе соседки насторожились и встретили его с поджатыми губами, перевез к ним свои вещи и согласился с Асей в том, что не стоит платить деньги за жилье, которое он снимал все эти семь или даже восемь лет, потому что он больше не собирается туда возвращаться. Теперь ее родители, кажется, снова привязались друг к другу, они спали на одной кровати, обсуждали покупку стиральной машины и поездку в Коктебель и вместе кричали на Асю, которая совершенно забросила английский язык, хотя в прошлом году ей держали учительницу для того, чтобы она, как говорила мама, «владела этим языком в совершенстве».
Ах, пусть, пусть кричат! Но пусть кричат — вместе. Она иногда ловила тревожный и подозрительный блеск в маминых глазах, внезапную пустоту и особую прозрачность в светлых глазах папы, особенно по утрам, когда мама, еще ненакрашенная и непричесанная, выходила к завтраку, который им давным-давно приготовила Ася, и сразу пугалась до того, что у нее холодели руки. Тогда она начинала быстро-быстро что-нибудь рассказывать или задавать смешные вопросы — она специально придумывала эти смешные вопросы, — лишь бы ушла прозрачная пустота из папиных глаз и настороженная тревога из маминых.
Вчера она решилась на последнее: она показала папе СВОЙ дом. Она не сделала бы этого никогда, если бы не желание намертво привязать папу к себе и, разумеется, к маме. Она открыла ему такую тайну, равной которой нет и не будет на свете. И кажется, он оценил это. Во всяком случае, когда он вечером вернулся с рынка, нагруженный свининой и картошкой, и взгляд его стал ускользать, а потом и вовсе закатился куда-то внутрь, в себя, как за горизонт закатывается солнце, Ася спросила:
— У тебя есть минутка?
И он с торопливой готовностью отозвался:
— Конечно!
Тогда она, как взрослая, взяла его под руку, они пересекли двор, в котором ее знал каждый голубь, сели в машину, и она объяснила, где находится ЭТО место. В сущности, до него можно было добраться и на трамвае, и даже — при желании — пешком, но Асе хотелось подъехать туда именно на машине, чтобы папа с его фотографической памятью навсегда запомнил, где ее ДОМ. Сначала был небольшой, заросший лопухами пустырь, где болтался обрывок волейбольной сетки, потом очень темный, но мелкий овраг, потом очень плотные, напоминающие африканские джунгли, заросли густого, колючего кустарника, сквозь которые она провела папу известной только ей одной извилистой и незаметной тропинкой. В самом конце, перед тем как заросли кустарника становились свалкой всякой ржавчины, было углубление в земле, которое она сверху предусмотрительно завалила сучьями и ветками, так что ни один человек на земле в жизни не догадался бы, что там, под этим прикрытием.
Она раздвинула ветки, и они с папой спрыгнули в глубину этой небольшой, но очень уютной пещеры, над которой она возилась целое лето и в которую вложила всю свою душу. Пещера была прекрасна. Если бы Асе вот прямо сейчас, не мешкая, предложили поменять ее на какой-нибудь там Бахчисарайский дворец с фонтаном, она презрительно отказалась бы. В ее ДОМЕ почти всегда было темно, но, привыкнув к темноте, глаз постепенно начинал различать нагромождение причудливых коряг, которые с успехом заменяли мебель. Каждая из них была живой и многое говорила Асиному сердцу. Вот эта, например, в самой глубине, была похожа на львенка, скрестившего свои мощные, но еще детские золотистые лапы и положившего на них морду. А эта — на странника, который прилег отдохнуть у дороги и накрылся дырявым капюшоном своего плаща, а эта — на двух оленят, сросшихся туловищами, но повернувших в разные стороны свои увенчанные маленькими ветвистыми рогами головы.
Под куском брезента Ася хранила все, что должно было помочь ей выжить первое время: спички, карманный электрический фонарик, сухари, соль, запас питьевой воды во фляге, подаренной дедом.
Они с папой сели вдвоем в очень удобное, образованное двумя корягами кресло с ручками на левой стороне, и Ася спросила:
— Ну как? Что скажешь?
Папа ответил уважительно и даже, как показалось ей, с недоумением:
— Шикарное место! Я не ожидал.
Итак, он, единственный на всем белом свете, знал ее тайну, но в нем она не сомневалась: папа, на взгляд Аси, не имел никаких недостатков, кроме одного: он недостаточно дорожил ее красавицей мамой, у которой так долго не складывалась жизнь. Теперь он вернулся на Шаболовскую, понял свои ошибки, и завтра, как сказала ей мама, они устраивают вечеринку в честь приезда из Одессы папиного закадычного друга дяди Пети, режиссера с Одесской киностудии. Ася знала, что и от нее многое зависит в том, как пройдет эта вечеринка. Почему это зависит и от нее тоже, она не могла объяснить.
В семь часов все приглашенные уже сидели за столом, ели крошечные бутербродики, сделанные мамой: черный хлеб с килькой, желтком, каплей майонеза и веточкой петрушки, пили водку и коньяк, с нетерпением принюхиваясь к головокружительным запахам, плывущим из кухни. Вся квартира, да и не только одна их квартира, но и та, которая была напротив через лестничную клетку, и та, которая над ними, и та, которая под ними, истекали слюной от запаха папиных щей, которые он готовил по старинному русскому рецепту и уверял, что именно так варили щи при дворе Петра Первого. Кроме мамы, папы, Аси и соседки Валентины, которая даже и не в их квартире жила, а на седьмом этаже, но напросилась нахально, узнав, что в гости ждут самого Геннадия Будника, и сказала маме: «Я, Ингочка, только автограф…», на что мама, слегка приподняв свои длинные брови, сказала ей вежливо: «Да оставайся!» Итак, кроме них, за столом сидел с каким-то отрешенным лицом Егор Мячин, давнишний Асин знакомый, супруги Кривицкие, держащиеся под скатертью крепко за руки, словно они Ромео и Джульетта, Регина Марковна в немыслимом лиловом, с черными полосами поперек платье, Люся Полынина в своей неизменной клетчатой ковбоечке, с оттопыренными ушами, бледная и такая несчастная, что Асе вдруг стало жалко ее, Геннадий Будник, готовый шутить и острить до тех пор, пока самому не наскучит, Аркадий Сомов, тоже очень забавный человек, всегда, как говорила мама, «голодный, как собака с волчьим аппетитом».