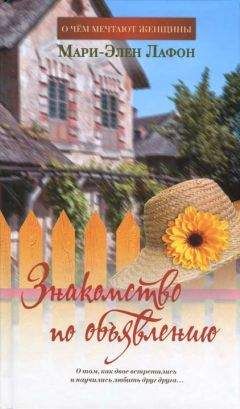Когда наступила вторая весна, Эрик с Лолой отыскали для себя укромный уголок в лесу на склоне горы. Поначалу Эрик к лесу и близко не подходил, но потом, подолгу стоя возле среднего окна в большой комнате, превращенного им в наблюдательный пункт, научился различать в сплетении ветвей просветы, указывающие на наличие тропинок. Мы пошли, обычно говорил он, и это означало, что они с Лолой направляются в лес Комб, на плато Бажиль или на речку; чтобы Анетта не волновалась, он всегда предупреждал, куда именно они собрались. Они уходили утром и возвращались к обеду, используя для прогулок время, когда никто особенно не нуждался в помощи Лолы. Эрик быстро понял, что во Фридьере весь жизненный распорядок подчинен работе; у Лолы в этом распорядке имелось свое место, и она никогда не отлынивала от своих обязанностей, чем и заслужила любовь и уважение домочадцев. Эрик ни в коем случае не хотел, чтобы у Лолы из-за него были неприятности, и не злоупотреблял ее компанией; постепенно все смирились с тем удивительным фактом, что чужой в общем-то мальчишка и собака так сдружились — водой не разольешь. В лесу Эрик с Лолой забирались в облюбованный ими укромный уголок, служивший им чем-то вроде тайного убежища. Псина обычно засыпала, доверчиво распластав на земле свое теплое тело, а Эрик вскарабкивался на развесистый бук, стоявший на краю их заветной поляны.
Ему нравилось разглядывать сверху окрестности: лесные тропинки, дом во Фридьере — отсюда было видно, какие окна открыты, а какие закрыты, — сараи, в которых возился Поль, прилепившиеся к склону деревенские постройки, цепную собаку Дювалей, луга, трактор Поля, трактор из Жаладиса, овец, коров, копающихся в огороде дядек, выходящую во двор мать, хлопочущую возле кроличьих клеток Николь, неторопливые и деловитые передвижения Поля и стоящую на своем обычном месте «диану». Он все видел и все про всех знал. Проснувшись, Лола оглядывалась, ища Эрика, а затем, догадавшись, где он, вставала перед деревом, задрав передние лапы на ствол, выражая своей позой и приказ и просьбу поскорее спускаться вниз. Она не лаяла, только повизгивала, и иногда Эрику казалось, что она сейчас заплачет. Он быстро соскальзывал на землю. Лола отбегала на несколько шагов, насторожив уши и вздыбив на загривке шерсть: минуты три она не желала с ним разговаривать, демонстрируя смертельную обиду. Впрочем, надолго ее не хватало; Эрик догонял ее, обнимал, и она его прощала.
Николь была хранительницей Фридьера — своего рода верховной жрицей местного культа, неразрывно связанного с духом этого края, замкнутого, закрытого, словно отгороженного от внешнего мира и обреченного оставаться таким вечно: и потому, что его география и климат отпугивали чужаков, и потому, что его обитатели не отличались общительностью. Посторонних во Фридьере в лучшем случае терпели; стать здесь своими было невозможно, и никакие усилия Поля — человека решительного и преисполненного самых лучших побуждений — не могли ничего изменить.
Законы здесь диктовала Николь, которой даже не требовалось произносить их вслух, достаточно было недовольного бурчания за спиной пришельцев; она не нападала в открытую, но не собиралась уступать ни пяди своей власти и своего влияния. Воинственно встряхивая темной с красноватым отливом челкой, она безапелляционно заявляла, что Фридьер — вершина обитаемой части коммуны; крыша мира, то есть практически Гималаи, как-то не удержался от комментария Эрик, когда после очередной воскресной трапезы они поднялись к себе наверх. За обедом Николь, разогретая двумя или тремя бокалами вина, произнесла целую пламенную речь в защиту Фридьера, подчеркивая его уникальность, превосходство над прочим миром и консерватизм; сама его изоляция хранит и, как она надеется и верит, всегда будет хранить этот благословенный уголок от нашествия чужеземных орд, от всех этих нищих побирушек с кожей разной степени смуглости, которым нечего есть у себя дома, вот они и прутся целыми толпами во Францию, заполонили собой все города, все равнины, садятся на шею людям, которые работают, вот именно, работают не покладая рук, а не плодят детей десятками, лишь бы нахапать побольше пособий — на радость бездельникам из социальных служб. Она говорила все это, напустив на себя удрученный вид, и сидела как изваяние, положив локти на клеенку, уперев подбородок в сжатые кулаки, — руки у нее крупные и сильные, такие же, как у Поля, подумала Анетта, которая ни за что на свете не осмелилась бы вставить хоть словечко в эту гневную тираду.
Поль тоже не делал ни малейших попыток возражать сестре, слушая ее с насмешливым смирением; дядьки и вовсе, насытившись, дружно клевали носом, как и положено двум почтенным старцам, совершенно равнодушным к фокусам современного мира, из-за которых понапрасну кипятилась их строптивая племянница. Слова, которые она выплевывала, хлесткие, напитанные желчью, разлетались по комнате, кружились в воздухе и оседали на стенах нижней столовой, ставшей эпицентром спровоцированного Николь стихийного бедствия; здесь, в этом месте, находился, по ее глубокому убеждению, пуп земли, ее заветный бастион, где она могла безраздельно властвовать, понимая, впрочем, что за его стенами все ее могущество оборачивается пустым звуком. Люди не желают признавать очевидного, продолжала она, хотя достаточно просто раскрыть глаза, и через две секунды исчезнут последние сомнения: нас обложили со всех сторон и сосут из нас соки. Ведь что делается в городах? Все перемешалось, женятся на ком попало, а потом удивляются, что французы вырождаются; и то правда, нет больше той породы, что среди людей, что среди скотины, — при этом она подозрительно покосилась на Лолу, слывшую бесплодной и действительно, вопреки упорным ухаживаниям соседских кобелей, ни разу не порадовавшую хозяев щенками.
Николь разошлась не на шутку: нет, она не имеет ничего против китайцев, они работяги, это всем известно, только кончится все это тем, что они колонизируют Францию и заведут здесь свои порядки; черные — другое дело, с ними не все так просто, но самое плохое — это даже не черные, а серые; под серыми она подразумевала арабов, не произнося, а как будто изрыгая это слово, словно оно жгло ей внутренности; правда, справедливости ради добавила она, лично ей пришлось столкнуться с живыми арабами всего раз, в Орильяке, но ни за что на свете она не пожелала бы увидеть кого-нибудь из них здесь, во Фридьере. Говоря «во Фридьере», она обязательно подчеркивала: «здесь, у нас» или «здесь, у меня», и ее малоподвижное лицо кривилось в обиженной гримасе.
Вечером, после того как они поднялись к себе на «американский этаж», Эрик спросил у Поля и Анетты, а как насчет его, к какой части людей относится он, ведь у него же польская фамилия, хотя поляки, они все-таки белые, и многоженства у них нет, и свинину они едят, и вино пьют, он даже слышал такое выражение: «нализался как поляк», так говорили во Фридьере, и в Сент-Амандене, и в Конда. Поль в ответ только тихонько рассмеялся, а потом сказал, что не надо обращать внимания на его сестру, вот она как раз пить не умеет, у нее после пары глотков в голове наступает помутнение, но в душе она совсем, совсем не злая. Анетта вообще промолчала и только подумала, как вырос Эрик; она все чаще ловила на себе, да и не только на себе, его внимательный взгляд, и хотя он остался таким же немногословным, как раньше, но теперь отпускал порой короткие замечания, поражавшие ее своей проницательностью.