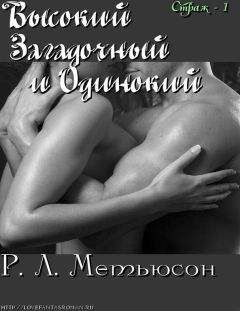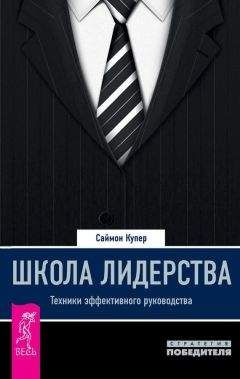Нас с Робертом и Томом можно было назвать радикалами — мы опоздали родиться лет на тридцать, тогда мы со спокойной совестью причислили бы себя к либералам. Суть заключалась в том, что жизнь в недемократическом государстве была бы для нас, по нашему убеждению, неприемлема. Тут нам, собственно, даже обсуждать было нечего — это разумелось само собой. Возможно, потому, что мы считали себя свободными художниками, а возможно, и не потому — не будь мы художниками, мы, вероятно, думали бы точно так же. Мы были очень разные, но нас роднила ярко выраженная несклонность пускать корни и подчиняться общепринятому, в особенности — подчиняться общепринятому. Мы нисколько не сомневались, что в случае, если бы у нас в стране установился авторитарный режим, все равно какой, мы оба кончили бы плохо.
Так обстояло дело с нашими, если можно так выразиться, политическими настроениями. Из-за них положение в мире представлялось нам в самом черном свете. Мы относились к нему чрезвычайно серьезно, и серьезность наша все усугублялась, меж тем как поступки становились все смехотворнее.
Когда Том объявил, что намерен сообщить, к каким заключениям пришел Роберт, я приуныл. С той поры, как мы сделали вывод, что правительство нашей страны отнюдь не намерено бросать вызов национал-социалистам, нас вообще не покидало уныние, а в тот вечер, когда премьер-министр прибыл назад из Мюнхена, мы окончательно пали духом. Никогда не забуду, как я купил тогда вечернюю газету — Том тоже был со мной, мы вместе развернули ее и стали читать. И нас захлестнуло отчаяние, вдвойне глубокое и мрачное от сознания, что мы каким-то необъяснимым образом разделяем ответственность за случившееся. К весне 1939 года мы еще не пришли в себя. Пережитый позор вселял в нас уверенность, что в будущем повторится то же самое. И что второй раз будет последним.
— Старик говорит, если к августу не начнется война, то к октябрю быть нам беженцами.
Я глядел на Тома, а в голове у меня вертелось: март, апрель, май…
— Надо сматывать удочки, — сказал Том, — пока есть еще порядочно времени в запасе.
Эта мысль не раз за последние месяцы проскальзывала в наших разговорах. Большие зеленоватые навыкате глаза Тома смотрели на меня в упор.
— Роберт начинает переходить от слов к делу.
Что я мог на это сказать? Я перевел взгляд на окно. Солнце скрылось с площади, и палатки весело перемигивались яркими огоньками.
Том продолжал:
— Он решил, что самое подходящее место — Америка. И предлагает, чтобы первым ехал я.
Такое предложение напрашивалось само собой, потому что Том был еврей, а мы с Робертом — нет. Не повезло Тому, подумал я, ведь он совершенно так же смотрел бы на вещи, если бы не был еврей, а отваги — и уж, конечно, опрометчивости — из нас троих на его долю отпущено больше всего.
Том начал излагать мне свои планы. Мы считали, что по части ума и способностей нас бог не обидел в сравнении с другими, и потому перспектива пробивать себе дорогу на чужбине пугала нас не слишком, а пока дело не шло дальше воздушных замков, не пугала вовсе.
Я немного воспрянул духом. Что ни говори, а поступок наш выглядел романтично. Мы покидали родную страну во имя свободы. Не скрою, временами мне представлялось, что мы тоже отцы-пилигримы[2], правда несколько иного образца. А в минуты откровенности я не мог не признаться себе, что мысль оставить позади все и даже всех — как это ни постыдно, и боже упаси, чтобы это открылось Тому, — определенно не лишена заманчивости.
Я задумчиво чертил ручкой ножа узор на скатерти.
— Советую тебе поразмыслить, как поступить с Миртл, — сказал Том.
Я покраснел.
— То есть? — сказал я так, словно не имел ни малейшего представления, о чем он ведет речь.
— Ты, насколько я понимаю, в Америку везти ее с собой не собираешься?
— Я как-то не думал об этом.
— Ну, знаешь! — В возгласе Тома смешались недоверие и негодование. Ясное дело, снова «Ох уж эти мне интроверты».
— А куда спешить? — благодушно сказал я. — Вот закончу сперва учебный год… — Я подумал, какое будет блаженство подать в июле заявление об уходе.
— Не очень это красиво по отношению к Миртл, на мой взгляд. Но сказать-то ты ей, конечно, скажешь?
— Конечно, — отозвался я с мысленной оговоркой, что сделаю это в самых расплывчатых выражениях. — Вообще у нас об этом уже был разговор. Она знает, что существует такая вероятность. — А я знал, что, хотя разговор и правда был, Миртл ни минуты не верила, что это когда-нибудь произойдет на самом деле.
— Я бы на твоем месте, — сказал Том, — пожалуй, теперь же повел дело к разрыву.
Тотчас память вернула меня к одному событию в прошлом. Я тогда был влюблен в замужнюю даму, и ее муж зарабатывал пять тысяч фунтов в год, а я — триста пятьдесят фунтов. «Я бы на твоем месте, — наставлял меня Том, — разрушил этот брак». Слава богу, что не Том был на моем месте.
— Ты не считаешься с ее чувствами, — говорил Том, — а я бы на твоем месте считался. Все это можно проделать тонко, чутко.
Мне казалось, что где-то в наставлениях Тома содержится, как это большей частью бывало, некое противоречие, только я не успел уловить, в чем оно, потому что он без передышки продолжал:
— Я, наверное, внушил бы ей мысль, что так будет лучше… — он изящно взмахнул рукой, — для нас обоих.
— Плохо же ты знаешь Миртл в таком случае!
Том пожал плечами.
Мы оставили эту тему и принялись обсуждать, чем будем зарабатывать на жизнь в Америке. И все-таки у меня было неспокойно на душе. Том умел сеять в ней сомнения. В данном случае это было нетрудно, я и сам знал, что веду себя как скотина. Я собирался уезжать в Америку. И не собирался жениться на Миртл.
Но разве так уж обязательно при этом бросать Миртл, рассуждал я. Мне не хотелось принимать окончательное решение. Психологически Том, вероятно, был прав. Но в вечном своем нелепом стремлении крушить и рушить Том упускал из виду подробность, которая передо мною мгновенно вставала во весь рост: если отвлечься от психологии, разрыв с Миртл наносил мне вполне очевидный ущерб. Самое простое, заключил я, давать приятелю советы, из которых вытекает, что он должен расстаться со своей девушкой.
Я так и не сказал Тому, как собираюсь поступить.
После воскресного ленча в трактире «Пес и перепелка» мы с Миртл не спеша побрели по полям назад к дому. Таков был заведенный порядок, и я следил, чтобы он не нарушался.
В воскресенье она приезжала утром на велосипеде, свежая, нарядная, оживленная. Иногда она заставала меня после завтрака за мытьем посуды в судомойной, где я нет-нет да и поглядывал, не блеснет ли за окном руль ее велосипеда; иногда я в это время обливался водой из колонки, чем вызывал у нее взгляд искоса, прилив стыдливого румянца и реплику: «Не знаю, зайчик, как только ты терпишь такую холодную воду!» — а иногда к ее приезду я как раз созревал для краткого обмена мнениями о чем-нибудь серьезном, вроде содержания воскресных газет.