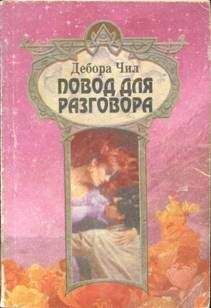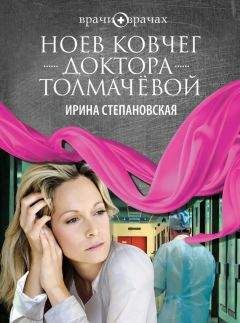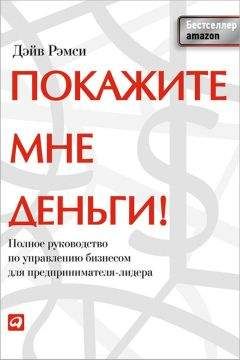«Он думает, что я алкоголичка. Ну что же, пусть думает, если ему так легче. Еще неизвестно, что лучше — стакан вина на ночь, чтобы уснуть, или горсть транквилизаторов, чтобы не проснуться». Она и так их уже достаточно попила. Не сама придумала — к невропатологу ходила. По месту жительства. Очередь выстояла два с половиной часа. Удовольствия никакого. Сны от этих таблеток только гаже, а руки все равно трясутся, будто от водки. Негодяй Азарцев, еще посмел спрашивать про алкогольдегидрогеназу! Помнит ли она!
Да, она все помнит. Лучше бы забыть! Как она была счастлива первые полгода, продавая газеты! Никакие сны ее не мучили. А потом началось. Будто сглазил кто. А он еще уговорил ее тогда все-таки пойти работать в его долбаную клинику. И она пошла. Зачем, спрашивается, пошла? Только мучилась! Лучше продавала бы газеты, как начала! Или холодильники, или стиральные машины! Так нет, бес попутал, по профессии заскучала.
Как он говорил? «Газеты может продавать каждый, а ты в своем деле очень хороший специалист. Можешь все, как Господь Бог». Только что же тогда не защитил он такого ценного специалиста?
«Медицина — вторая жизнь, — думала Тина, стоя на кухне будто в оцепенении, — или первая. Или единственная. Господи! За что ты мучаешь меня этими снами? Почему каждую ночь просыпаюсь я по нескольку раз в холодном поту от бессилия, от невозможности никому помочь? — Господи! Ведь вылеченных больных, тех, кому я реально помогла вот этой головой, этими руками, ведь их было гораздо больше, на порядок больше, чем тех, кому помочь было нельзя. За что же ты мучаешь меня, Господи, кошмарами, в которых все, все, все мои больные от разных причин, при разном стечении обстоятельств, но каждую ночь погибают! Только погибают. Погибают и погибают!»
Газеты, которые она продает… В каждой есть медицинский раздел. Как ни почитаешь какой-нибудь очерк, так сразу и кажется, будто врачи у нас сплошь садисты, идиоты и неучи. Заморить больного им что стакан воды выпить, сплошное удовольствие утоления жажды. Раньше, когда она работала в больнице, ей было некогда газеты читать, она и не читала. А потом в переходе стала читать от нечего делать. Боже, зачем ты вкладываешь перо в руки людям, которые не в силах разобраться, что к чему…
Нет! Никогда она больше не пойдет в медицину! Одна только мысль, что не во сне, наяву может повториться кошмар гибели больного, и то не дает покоя! Господи, как ты несправедлив! А эти ужасные вечера! Когда она сидит одна дома в квартире и ей явственно слышится, что ее зовут! Она слышит голоса. То Ашот зовет ее зачем-нибудь в палату, то Валерий Павлович гудит, читая вслух медицинский журнал, то Барашков травит какой-нибудь анекдот, то Таня с Мариной обсуждают фасон нового платья. Только голоса Мышки почему-то не слышит она никогда. Будто Мышки нет и никогда не было. Она не говорит никому о том, что слышит. Скажешь, еще упекут в психушку. Валерия Павловича она во сне видит часто. То ей снится, как она бежит к нему, раненому, лежащему на кафельном полу в той самой палате, но во сне не может его даже перевязать, зажать рану, настолько все у нее валится из слабых рук. То ей видится, что вместо нее к Чистякову бежит Барашков, и тогда она бывает счастлива, но только на миг — Аркадию удается спасти Валерия Павловича. Но через секунду ей уже снится, что после всего доктора собираются в ординаторской и глядят на нее, Тину, с укором и их голоса гудят нестройным хором: «Что же ты ничего не знаешь и не умеешь?» Но еще чаще она видит безымянных больных, тех, чьи лица ей совсем не знакомы. Их везут и везут, заполняют больными палаты и коридоры, и она мечется между ними, не в силах помочь. Сестры не слушают ее приказаний, руки ее дрожат, она не может сделать элементарный внутримышечный укол или не может попасть в вену, не понимает показаний приборов, не может выговорить названий лекарств, и опять все, кто находится рядом, смотрят с укором, с немым вопросом в глазах, в котором ясно читается: «Что с тобой, Тина? Нет, ты кто угодно, но больше не врач. Ты ничего не можешь».
Так каждая ночь проходила в поту, в слезах. Но бывало, что она вовсе не могла уснуть. Лежала до рассвета в кровати, но сон не шел, в памяти мешались лица больных, истории болезни, врачебные конференции, знакомые голоса. Под утро она так уставала от воспоминаний, что казалось, вот закроет глаза — и провалится в сон. Нет, куда там. Сон без сновидений теперь для нее был немыслимой роскошью. И не снились ей ни родители, ни детство, ни Леночка, ни муж или сын, нет этого ничего, как будто и не было в ее жизни. Только больные, только больница. Удивительно, она могла раньше спать в автобусах, в самолетах! Урывками на продавленном диване в холодной, неуютной ординаторской. Какая роскошь! Вернуться бы на этот диван! Сколько бы она отдала, чтобы опять очутиться там, прилечь и быстро заснуть. И спать сколько захочет! Что за пытка! Неужели бессонница — расплата за ее грехи?! А так ли уж много она грешила…
Иногда ей снилась ее последняя работа. Всегда одинаковый сон. Роскошная комната, много народу. На полу шикарные растения в горшках из испанской майолики, на низких старинных столах гладиолусы в вазах. В углу комнаты золоченая клетка. В ней прыгают и щебечут пестрые, незнакомые, с яркими хвостами и хохолками на головах, никогда не виданные Тиной ранее экзотические птицы. Одни птицы исчезают неизвестно куда, другие появляются…
В комнате среди людей — больных и персонала — стоят они втроем: Азарцев, его жена Юлия и она, Тина. Дальше сон развивается всегда одинаково: о чем бы ни велся разговор, Азарцев всегда принимал сторону Юлии. И тогда она, Тина, от ревности, от ярости бросалась на Юлино красивое, холеное лицо. В Тининых снах лицо у Юлии всегда было одинаковое, такое же, как наяву — гладкое, будто фарфоровое. Холодное, красивое, улыбающееся с издевкой. Тине хотелось его разбить. Она нападала. Ее оттаскивали, был шум, крик, летели на пол и разбивались вазы с цветами, выплескивалась на ковры вода, орали в клетках птицы. «Какой скандал в фешенебельной клинике!» — судачили больные. А Юлия смеялась, просто хохотала, выставляя напоказ роскошные искусственные зубы.
А ей, Тине никогда не удавалось дотянуться до этого кукольного лица, причинить ему вред. Ее держал Азарцев. На его лице всегда была презрительная усмешка.
— Ты не права, — говорил он ей, Тине. — Ты должна извиниться!
— Но почему я всегда не права? Не буду извиняться! — кричала Тина. — За что?
— Как хочешь. — Азарцев равнодушно тогда пожимал плечами, брал под руку Юлию, и они уходили. Поднимались по широкой деревянной лестнице на второй этаж, туда, где наяву располагались операционные. Во сне же Тине казалось, что поднимаются они в спальню.