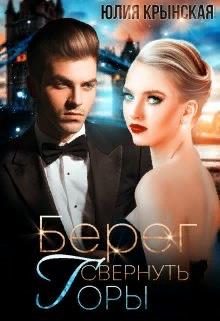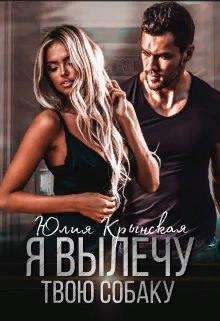покашляла и затараторила: — Жили-были три китайца — Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони, И еще три китаянки — Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лампомпони. Поженились Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лампомпони. Вот у них родились дети: у Яка с Цыпой — Шах, У Як-Цидрака с Цыпой-Дрыпой — Шах-Шарах, У Як-Цидрак-Цидрони с Цыпо-Дрыпой-Лампопони – Шах-Шарах-Шарони.
Я оторопел:
— Это прямо сериал какой-то. Ну ты даёшь! Это вас в садике такому учат?
— А я в садик не хожу. Болею часто… Не пойдут такие стихи? — расстроилась малышка, и в глазах блеснули слёзы.
— Нет, что ты? — бросился я её утешать. — Я просто думал, что будет что-то про Таню и мячик.
— Вам бы, мальчишкам, лишь бы мяч гонять, — театрально вздохнула малышка и поправила пижаму не по размеру на плечах.
Что-то мне это напомнило.
— Мяч мы любим гонять, — усмехнулся я и всмотрелся в лицо малышки.
Я не мог её раньше видеть. Но даю голову на отсечение — видел.
— Так моя мама говорит, — блеснула малышка белыми зубками. В ряду не хватало парочки, но от этого её улыбка казалась ещё милее.
Так, а кто у нас мама? Я прикусил язык, проглотив вопрос. Как сын Деда Мороза я и так должен всё знать. Уж тем более имя этой... Как кличут эту крошку? Проще простого:
— А как тебя мама зовёт?
— Маруся? — развела малышка руками. — Ты разве не знаешь.
— Я знаю, что ты Мария, — напустил я на себя серьёзный вид. — А вот как мама тебя зовёт — не знаю.
— Ты тоже можешь звать меня Марусей,— зевнула малышка. — Я для мамы тоже подарок заказала.
— Какой? — опешил я. Про маму я даже не думал. Поперёк горла мне уже эти бабы.
— Мужчину хорошего, — серьёзно взглянула на меня малышка. — Есть фотки?
Я с трудом не расхохотался. Вспомнив про фото нашей футбольной команды, я с честным видом кивнул:
— Есть.
— Всех можно посмотреть?
Рита
Спиной вваливаюсь в кабинет и цежу сквозь зубы:
— Не хожу я на свидания! Счёт выпишу — сами передумаете! И не стучите! У меня ребёнок спит, — закрываю дверь, чуть не прищемив Коляну нос, поворачиваю с треском ключ в замке и замираю от шороха за спиной.
Показалось?! Поворачиваюсь, как в замедленной съёмке. Сердце стучит в уши, словно цирковой барабанщик в литавры бьёт. Еще чуть-чуть и скажет завтра Люська, как в старом фильме: «Инфаркт микарда! Вот такой рубец!»
Маруся, укутанная в одеяло, спит на руках у Фрола, а он снова листает ленту в телефоне. Лицо дочери безмятежно, щёки разрумянились. От Фрола всегда веет теплом. На всех его дам веет, надо полагать.
— Вам нужно всё время кого-то на руках держать? — Осколки самообладания уже не собрать.
Прислоняюсь спиной к ледяной двери. Холод отрезвляет. Фрол одним пальцем выключает экран и небрежно кидает телефон на диван. Склоняет голову набок и упирается в меня взглядом. Ага, сейчас! Со мной этот номер больше не пройдёт.
— Кто вас сюда впустил?..
Он подносит палец к губам, и я послушно перехожу на шипение:
— Кто вас сюда впустил? — Отлипаю от двери и иду к столу, как начинающий йог по углям.
Фрол молчит, провожая меня взглядом, будто я конь ярморочный.
— Маруся плакала? — спрашиваю твёрдо, как у пациента температуру.
— Наконец-то вопрос по существу, — усмехается Фрол и с нежностью всматривается в личико нашей дочки. — Нет. Не плакала. Мы очень мило провели время. Для неё я Декабрь, сын Деда Мороза.
— Обезьяну просила? — вздыхаю, я.
Для меня он тоже Декабрь. Жаркий Декабрь. Я до сих пор помню вкус его поцелуев, ласковые прикосновения. Но это в прошлом. Подушка на моём рабочем кресле принимает меня в поролоновые объятья. Ноги гудят после рабочего дня. Я незаметно скидываю мокасины и ставлю на них стопы. Сегодня и без Фроловой обезьяны пациентов «аки песка морского» обслужили. Нажимаю кнопочку, вспыхивает монитор, на экране появляется Марусино личико. Фрол вытягивает шею и улыбается. Впервые жалею, что у меня там не фото какого-нибудь красавчика.
— Да, обезьяну, — с опозданием отвечает он. — Обещал подарить.
— Не стоит. Я скажу, что вы ей приснились.
— Сколько Марусе? Сообразительная такая.
— Пять. — Я завожу новую карточку пациента и пьянею от аромата цитрусового парфюма, добравшегося до моего носа. — Фамилия!
— Чья? — не сразу понимает Фрол.
— Обезьяны!
— А, ну да. Горин. Простите, я не представился, — пальцы вновь отправляются в путешествие по чубу и завершают свой путь на затылке, — обычно меня узнают.
— Кличка и возраст, — бесстрастность сейчас моё всё.
— 33 года, кличка «Горюшко».
Я утыкаюсь лбом в ладони.
— Обезьяны, что ли? — закипает Фрол. — Вы не можете не перескакивать так быстро с одного на другого.
Перескакивают блохи. И мужики из постели в постель. Вслух я этого не произношу и вновь кладу пальцы на клавиатуру. Фрол смиряется с моим молчанием:
— Моцарт, 9 лет.
Вопрос-ответ, заполняем карточку без дальнейших пререканий. В коридоре мерное урчание баса Коляна то и дело прерывается взрывным Люськиным смехом.
Я отправляю в чат клиники расчётный листок. Вот и всё. Сейчас Фрол встанет и вновь исчезнет из моей жизни. Он меня не узнал, не почувствовал, значит, не судьба. А удивлённо-разочарованное «ах, это ты», мне не нужно. Ужас, какое унижение пережила та рыжая девица на шоу. Но она сама виновата!
Я смотрю на Фрола, а он не сводит зачарованного взгляда с Маруси. На глаза наворачиваются слёзы, к горлу подкатывает комок. Я отворачиваюсь к окну и щёлкаю себя по кончику носа. От чихания помогает, думала, и от слёз, но нет. Выдыхаю и встаю из-за стола.
— Можете идти оплачивать.
Фрол удивлённо поднимает на меня глаза. Повторяю медленно, но настойчиво:
— Я говорю, вы можете идти оплачивать.
— Она так хорошо спит, — шепчет он.
— Я тоже хочу хорошо поспать, — перехожу я на шёпот, — а вы заняли моё место.
— Простите, — Фрол поднимается, держа Марусю на руках. — Можно нескромный вопрос?
— Нельзя, — упираюсь взглядом в его широкую грудь.
Что ж такое! Тянет, как магнитом. Только бы глазами не встретиться!
— Обычно разрешают.
—