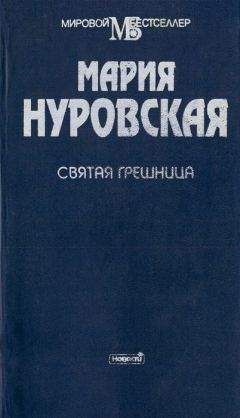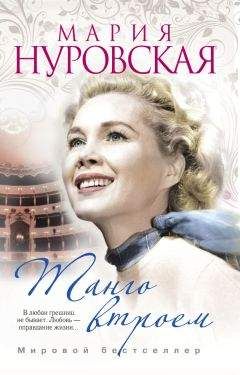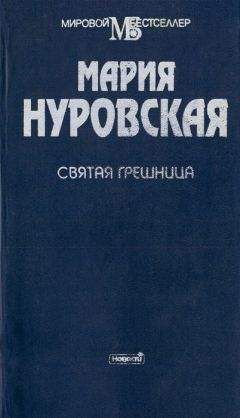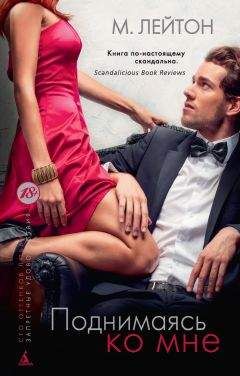Я и ночью к ее двери подхожу, прислушиваюсь. Утром же все по-другому выглядит. Как только с лестницы спускается, есть просит. Скорей бы Стефанек вернулся. Вдвоем ведь мы лучше о ней позаботимся, чем одна я. Позавчера, когда голову Янке мыла, увидела ее худой позвоночничек, и как тут было сердцу не сжаться. В глазах у меня потемнело, я на пол опустилась. Она ко мне, а потом — быстро в машину и к профессору. Что я ей должна была говорить, что причина не во мне вовсе, а в ней? Пусть уж лучше на мою болезнь все спишут.
Стефанек вернулся, с Янкой пошептались, готовятся к какому-то разговору. Оба по одну сторону стола, я по другую. Что ты, начинают, мамочка, вытворяешь, хочешь несчастье на себя навлечь? Если бы только на себя, думаю, а стыдно мне перед детьми, что так рассыхаюсь, как старая бочка, трещины уж больше, чем на полпальца. И неожиданно слышу, как он говорит по-польски:
— Из-за этого ребенка ты себе дел натворишь. Кому он нужен был?
Нужен, сынок, так нужен, как мало, кто на свете, отвечает ему мое сердце. А губы молчат, признаться не могут, да разве и понял бы кто меня.
Эта беда и привела меня к родственникам Галины. Казик дверь открыл. Один был дома, она куда-то уехала на несколько дней. Сначала так со мной разговаривал, будто я адрес перепутала, но потом смягчился. Сигарету дал и поближе подсел. Что-то во мне екнуло, мол, он случая ищет, но потом сама к нему прижалась. Ведь тепла человеческого ничто не заменит. Как-то так, по-мужски, все мне растолковал. Дескать, молодая женщина, ну что с ней может случиться. Сама не родит, значит, помогут. Сейчас и аппаратура, и врачи, и все такое.
— Ты лучше о себе подумай, тебе ведь лет на двадцать побольше.
— Если бы на двадцать.
— Ванда, а ведь ты совсем не стареешь. Тело у тебя, как орех.
Смотрит он прямо в глаза и руки на мои груди кладет. А у меня ссориться сил нету, да и одна остаться не хочу. Прижалась я тогда лбом к его плечу. И опять мы с ним на полу. Его руки по мне блуждают. Жду. От себя чего-то жду. А он вдруг спрашивает:
— Ванда, у тебя еще месячные есть?
Меня с пола так и сдуло. Одежду собираю. Казик тоже брюки поясом затягивает.
— Ну, вот уже спросить нельзя, прямо королева.
За пальто схватилась. А он это пальто из рук моих выхватывает.
— Ванда, каждую ночь с тобой делю, как последний кусок хлеба.
Стоит он передо мной, настоящие слезы в глазах. Что-то дрогнуло в моем сердце. Обнял он меня и ведет в спальню. Ночную рубашку жены от меня прячет.
— Ладно уж тебе, — говорю.
Однако с человеком постоянно что-то новое происходит. Уже не думала о мужчине. Даже Стефан для меня стал каким-то другим. Могла бы я встать перед ним голой?
Ох уж этот Казик. Губы еще ищут соски мои, а во мне такая сладость разливается, просыпаются воспоминания: как ребенок грудь берет, как мужчина… Я лежу, а слезы струятся по вискам, волосам. Да, да. Войди в меня, я жду. Никого я так не ждала. Но как же все поздно, как поздно. Нельзя мне быть счастливой, граната взорвется. Да и пусть взрывается, пока все это происходит. Столько лет, столько пропавших лет… если бы это был тот, кого люблю… заменить бы мое сердце, чтобы для этого человека билось, а не для того… Все не так, не так…
— Ванда, хорошо тебе? — шепчет.
И во мне такая благодарность к этому мужчину. Зачем слова? Тело мое за меня говорит.
Вернулась я от Казика успокоенная, ближе к этому свету, чем к тому, и вокруг все стало нормально. Ночью хорошо спала, но через несколько дней опять то же самое.
Ноги у меня опухли, Янка мне говорит, что-то с икрами не в порядке. У меня в глазах сразу потемнело, на что бы опереться. А она смеется. Наконец я взяла себя в руки: едем в больницу! Зачем, еще целый месяц? Затем, и так на Янку смотрю, что ее улыбку словно рукой смело. Не знает, слушать меня или нет. Может, Стефанка подождем? Никакого Стефанка. Первый раз на нее голос повысила, так что она послушалась. В машину, едем. Я веду. А она, мол, Стефанек решит, что мы две истерички, не любит он этих бабских выкрутасов. Ты на него не смотри, самое время о себе подумать. Мама, вы все в плохом свете видите. Может, это и так.
Ее сразу забрали. А мне: пожалуйста, возвращайтесь, она тут останется. Я подожду, говорю. Хоть целую ночь. Стефанек меня нашел, я в углу прикорнула. Хочет домой отправить, а я только головой мотаю. Тут останусь. Он: нет необходимости, за ней ухаживают. А ты, мама, только себе хуже сделаешь. Ну, что со мной будет? Возвращайся, сынок, ты ведь тяжело работаешь. Как я вообще работать могу, говорит, вы же обе с этим ребенком с ума посходили. Столько их рождается, одним больше, одним меньше. О себе должны думать, обязаны. Кого же это я родила? Что у тебя вместо сердца, камень? Я просто думать умею, отвечает. Ты наперекосяк думаешь или все это от меня перешло? Только как-то в другую сторону. Сел рядом, за руку меня берет: вот новость, мамочка кричать научилась. И зачем все это? Не все ли тебе равно, где ты переживать будешь, тут или дома? Я ему: хоть один раз не решай за меня, разреши самой выбрать. Иди, занимайся своими делами. Он только головой качает. Руку мою из своей не выпускает. А меня жалость такая охватила, ведь он же там, с нею, должен быть и тепло, что мне дает, ей предназначено. Может, ты к жене пойдешь, хоть покажись ей. Ей нужен покой, отвечает. Ее покой с тобой остался, говорю. Встал. Раз посылаешь меня, мамочка, я пойду, только я свое знаю. Мало ты, сынок, знаешь или не хочешь больше. Надеюсь, что первое. А он палец к губам прикладывает: тихо, я тут для тебя, мамочка, койку поищу. Иди уже, иди“.
Развод с Мартой. На этот раз еще и проблема с квартирой. Он должен был спрятать свои амбиции в карман и просить старых приятелей, чтобы ему помогли. Невозможно было жить вместе. Марта стала невыносима, приводила мужиков, не считаясь ни с мамашей, ни с Михалом. Не говоря уже о нем. Полгода продолжался этот кошмар. Переехала в выпрошенную им однокомнатную квартирку. Тогда он понял, как неприятны унижения. Был уже маленьким человеком, ничего от него не зависело. Другие люди принимали решения — ужасные, как оказалось в итоге. Было что-то забавное в его нынешнем положении. В те первые годы царила иная атмосфера, при всех ошибках и искривлениях ясно было, к чему они стремились. Сейчас, по прошествии времени, он мог это признать. Случалось, что страдали невинные. Ну, что же, среди людского моря попадались и глупцы. Возникали идиотичные распоряжения. Как, например, все в те времена было секретно или совершенно секретно. Каждая самая пустяковая бумажка с печатью должна была находиться под ключом. В случае проверки и доказательства преступления виновные представали перед судом. В память врезалась одно такое дело. Начальник почты, а точнее, ее филиала в забытой Богом дыре нанял уборщицей свою тещу. Как-то под вечер женщина взяла тряпку с ведром и повернула ключ, не отдавая себе отчета в том, что это означает год тюрьмы для ее зятя. В то время как она ползала по полу с тряпкой, в помещение вошел человек из ведомства Кровавого Владека, они тогда всюду принюхивались. Сразу высмотрел противопожарную инструкцию, лежащую на столе. Тут же состряпал вещественное доказательство, заверенное печатью и подписью подполковника пожарной охраны. Жена пострадавшего попала к Ванде, а та проводила ее к нему. Он обещал помочь, но когда обратил внимание Владека, что они перебарщивают, тот лицемерно поднял палец вверх и сказал: