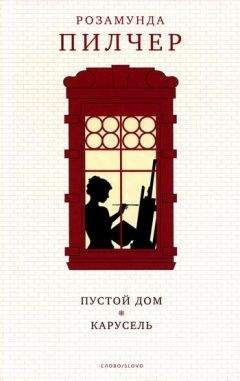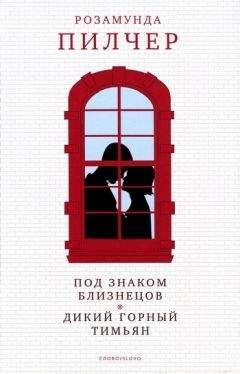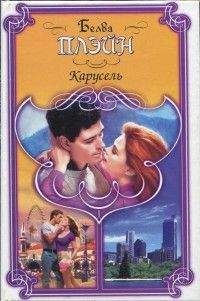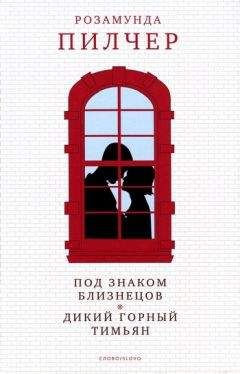В конце дороги, на подветренной стороне берега нас ждал Холли-коттедж, скрытый за гребнем холма и мирно покоившийся в тени. Но здесь, на краю склона, морские бризы никогда не утихали. Сейчас небольшой ветерок приглаживал траву в кюветах по обе стороны дороги и срывал первые листья с верхушек деревьев, обрамлявших старый церковный двор.
— Такая мирная картина, — сказала Феба, и ее слова прозвучали так, словно она думала вслух, — кажется, что здесь, на краю света, ты в безопасности. Я так думала, когда приехала сюда впервые, чтобы поселиться здесь вместе с Чипсом. Я думала, что от всего сбежала. Но от реальности не сбежишь. Жестокость, равнодушие, эгоизм.
— Но все это — свойства человеческой натуры, а люди есть повсюду.
— И они все губят. — Феба на мгновение задумалась об этом, а затем произнесла уже другим тоном: — Бедная женщина.
— Миссис Толливер? Да, мне тоже ее жаль. И все же я не понимаю, почему она решила рассказать все именно тебе.
— Ну, моя милая, это как раз не удивительно. Она знает, что я старая греховодница. Она никогда не забудет о том, что мы с Чипсом много лет счастливо жили вне брака. Она может рассказать мне о том, о чем никогда не расскажет собственным друзьям. Супруга полковника Дэнби или вдова банковского менеджера из Порткерриса — они были бы потрясены. И конечно, очень сильно пострадала бы ее гордость.
— Я тоже об этом подумала. Но ты была великолепна. Ты всегда великолепна, но сегодня ты была еще великолепнее, чем обычно.
— Не могу об этом судить.
— Я только надеюсь, что ты не слишком много на себя взвалила. Предположим, Лесли Коллиз действительно откажется от Шарлотты, ведь тогда она останется у тебя навсегда.
— Я не против.
— Но, Феба… — я запнулась, потому что человеку, которого любишь, нельзя сказать, что он слишком стар, даже если это правда.
— Ты думаешь, я слишком стара?
— Дело не только в этом. Ты тоже живешь своей жизнью, как и миссис Толливер. Почему именно ты должна приносить все в жертву? И давай называть вещи своими именами: мы все стареем. Даже я старею…
— Мне шестьдесят три. Если я проживу еще десять лет, мне будет всего семьдесят три. Я все еще буду молодой женщиной по меркам Пикассо или Артура Рубинштейна.
— При чем тут они?
— А к тому времени Шарлотте уже будет двадцать и она сможет сама о себе позаботиться. Я действительно не вижу в этом большой проблемы.
Ветровое стекло «фольксвагена» было грязным. Я нашла в машине ветошь и принялась беспорядочно его протирать.
— Пока я делала кофе на кухне, она ничего не говорила про Дэниела?
— Ничего.
— И ты ей ничего не сказала?
— Избави бог.
Я размазала грязь по стеклу, сделав едва ли не хуже, чем было. Пришлось сунуть тряпку на место.
— Как тебе известно, он сегодня приедет сюда, чтобы ехать с нами на пикник. Я предлагала забрать его на машине, но он сказал, что доберется своим ходом.
— Ну, это все равно.
Я взглянула на нее:
— Ты собираешься рассказать ему обо всем этом?
— Конечно, я ему расскажу. Расскажу все, как есть. Две головы хорошо, а три — лучше. И я страшно устала от всех этих секретов. Может быть, если бы у нас не было друг от друга секретов, ничего бы этого не произошло.
— Ох, Феба, вряд ли.
— Может быть, ты и права. Но давайте будем, наконец, искренни и откровенны, и тогда нам станет ясно, что к чему. К тому же Дэниел имеет право знать.
— Что, по-твоему, он будет делать?
— Делать? — Феба тупо уставилась на меня. — Почему он должен что-то делать?
— Он отец Шарлотты.
— Отец Шарлотты — Лесли Коллиз.
То же самое я говорила Дэниелу, сидя рядом с ним у бутафорского огня, пытаясь быть прозаичной и здравомыслящей и утешая его. Но теперь дела обстояли иначе.
— Возможно, он и не несет ответственности, — заметила я, — но это не значит, что он не будет ее ощущать.
— И что, по-твоему, он станет с этим делать?
— Я не знаю.
— А я тебе скажу. Ничего. Потому что нет ничего, что он может сделать. И потому, что даже если бы что-то и было, он бы все равно ничего не сделал.
— Откуда ты знаешь?
— Просто я знаю Дэниела.
— Я тоже его знаю.
— Я была бы рада, если бы это было так.
— Что ты хочешь этим сказать?
Феба вздохнула.
— О, ничего. Я просто боюсь, что ты в него влюбилась.
Ее голос звучал так же ровно, как всегда, словно мы говорили о чем-то незначительном. В результате я была застигнута врасплох. Я ответила, пытаясь казаться такой же небрежной, как она:
— Я не знаю, что на самом деле значит «влюбиться». Для меня это всегда было каким-то бессмысленным словом. Как «простить». Никогда не могла понять, что значит «простить». Если ты не прощаешь, значит ты гадкий, обидчивый и злопамятный, а если прощаешь, значит ты самодовольный и лицемерный.
Но мне не удалось отвлечь Фебу этим интересным вопросом. Она не позволила сбить себя с мысли.
— Ну хорошо, скажем, «полюбила». Может быть, это слово легче поддается определению.
— Если ты хочешь определений, то у меня такое чувство, словно я знала его всегда. Как будто у нас было общее прошлое. И я не хочу его потерять, потому что думаю, что мы нужны друг другу.
— А было ли у тебя такое ощущение до того, как он рассказал тебе эту эпическую историю про Аннабель?
— Думаю, да. Да. Как видишь, я не просто жалею его.
— Почему ты должна его жалеть? У него есть все: и молодость, и поразительный талант, а теперь еще и слава, и деньги и все материальные блага, которые этому сопутствуют.
— Но как ты можешь сбрасывать со счетов то, что произошло между ним и Аннабель? Он чувствовал свою вину на протяжении одиннадцати лет, потому что даже не знал, его ли это ребенок. Разве не заслуживает жалости любой человек, который нес на себе такой груз вины целых одиннадцать лет?
— Но эту вину породил он сам. Ему не следовало убегать.
— Может быть, он и не убегал. Может быть, он просто выбрал то, что советовал ему Чипс, то, что было единственно возможным и разумным выходом.
— Он говорил с тобой об этом?
— Да. И он приглашал меня поехать с ним в Грецию. На остров Спетсес. Это было еще до того, как он рассказал мне про Аннабель и Шарлотту. Но после того мы вновь заговорили об этой поездке, и он сказал, что она не принесет ничего хорошего, потому что он не может все время убегать от собственных мыслей.
— И ты бы поехала? В Грецию?
— Да.
— А потом?
— Не знаю.
— Это не очень хорошо для тебя, Пруденс.
— Ты говоришь, как моя мать.
— Пусть я говорю, как твоя мать, — а она, между прочим, вовсе не дура, — я все же должна это сказать. Ты не знаешь Дэниела. Он истинный художник: непостоянный, беспокойный и непрактичный.