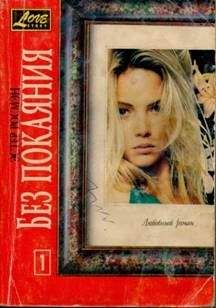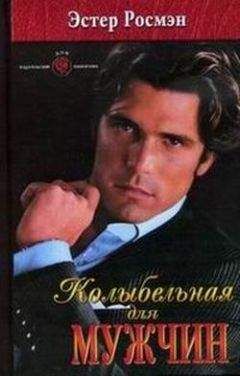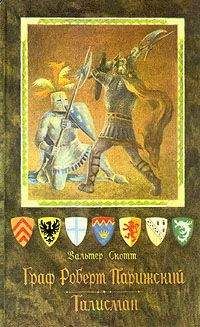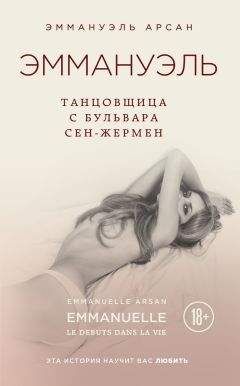Жены иногда, в критические минуты, исполняют главные роли. Случается, что без них вообще невозможно обойтись.
* * *
Харрисон Мэтленд посмотрел на запястье, где обычно носил свой золотой «роллекс», и увидел там пучок всякой пластиковой дряни. Вот так вот, сэр, стоим на пороге покойницкой. В одну секунду с тебя слетает все твое сенаторское достоинство. Что он теперь такое? Кусок мяса, как и все другие, материал для медицинских изысканий, и больше ничего.
Когда они привезли его, то сразу содрали всю одежду, оставили голеньким, как и всякого прочего смертного, натянули на него больничную рубашку, уложили в койку, стоящую среди целой своры аппаратов, и оставили смотреть, как на экране пульсирует какая-то тонкая зигзагообразная чертовщина. Потом пришли, послушали сердце, ушли, вернулись, сделали укол, опять ушли и оставили его здесь бессмысленно валяться. Хорошо уж то, что этот комок мускулов в его груди продолжает еще трепыхаться, а то бы совсем хана. Снаружи уже темно. Сколько же времени прошло? Да, этот день он пережил, но все еще удивлялся, хотя уже и начал привыкать к мысли, что не умер. Боли не было. Ее почти сразу блокировали. Но неприятные сбои сердечного ритма весьма тревожили и удручающе действовали на психику. Боже, как ему ненавистна мысль, что он оказался вдруг всецело зависимым от своего бренного тела.
Хорошо бы, конечно, не отсылать Эвелин домой. Ее присутствие успокаивает его и здорово поддерживает. Она, как всегда, не задает вопросов. Ни в чем существенном не противоречит, заботлива, деловита, собранна — одним словом, прекрасный компаньон, обладающий всеми качествами, необходимыми жене крупного политика. Да, но все же пришлось после обеда отправить ее домой, несмотря на то что с ней он чувствовал себя гораздо спокойнее. У него появилась уверенность, что этой ночью он не умрет, так что лучше побыть одному, ему есть что обдумать.
Томми Бишоп, прорвавшийся все-таки на пару минут в палату, поначалу раскипятился.
— Вот дерьмо! Дерьмо собачье! Подыхай, а думай об этих долбаных голосах! — Потом снизил обороты и жизнерадостно принялся утешать больного: — Ну, ничего, ничего, Харрисон! Не бери в голову, мы им подадим твою болячку как плюс. Вот увидишь, мы и на ней соберем кучу голосов, надо только хорошенько все обмозговать. Держись, старина!
А через полчаса Томми, Артур и Норман Самуэльсон — его мозговой трест — внизу, в холле больницы, вырабатывали стратегию. А Харрисон лежал в палате и слушал низкое гудение аппаратуры, ожидая решения. Ради Христа или самого дьявола — решения!
Эвелин курсировала между палатой и холлом, передавая вопросы и запросы, возникающие в мозговом центре, и возвращая ответы и комментарии Харрисона. Поскольку основные медицинские процедуры и анализы можно было перенести на следующий день, они решили провести это экстренное совещание. Неохотно, но Харрисон в конце концов признал, что будет целесообразно передать средствам массовой информации сведения о сердечном приступе.
— Лучше начать мрачновато, но зато потом сообщать о быстром и надежном улучшении, — утверждал Томми.
Харрисон просил установить в палате телевизор, чтобы он мог смотреть новости. Но Марк категорически воспретил это:
— Достаточно и того, что вокруг тебя мельтешатся твои советники. Неужели нельзя потерпеть день-другой? Дай своему сердцу хоть немного прийти в норму.
Ох, ну что за дела! Хорошо, что хоть с Энтони дали спокойно поговорить.
Харрисон по-своему любил брата, но никогда не выказывал этого. Энтони одним своим существованием внушал ему чувство вины, не какой-то конкретной, но вины. Просто где-то подспудно таилось восхищение старшим братом, но из-за полной невозможности подражать ему сознание отказывалось относиться к этому восхищению серьезно.
Он уставился в один из аппаратов, торчащий прямо перед ним. Чем-то так этот сундук моргал и подмигивал, какими-то бессмысленными огоньками. За окнами темень. Двадцать минут назад ему сделали укол, и теперь он впадал в полудрему и не сопротивлялся этому, поскольку чувствовал, что сон просто необходим.
Кисти рук лежали на груди, и пальцам передавался ритм сердцебиения. Он повернул голову в сторону темных окон. Но куда, в конце концов, не обратишь взор, повсюду видишь безрадостное зрелище. Больница она и есть больница. Лежишь и ничего не можешь. Вдруг все это породило в нем жгучее желание встать и хоть что-нибудь сделать, хоть что-нибудь, ну, хоть стул передвинуть, но он понимал, что даже на это не способен.
Каждый раз, как ему удавалось выкинуть из головы свое подкачавшее сердце и предвыборную кампанию, образ Мэджин проникал в его сознание и заполнял образовавшийся ненадолго вакуум. Он отчетливо видел выражение ее лица, когда она говорила ему о своей беременности. Это было больше того, с чем он мог совладать, надо перестать об этом думать. Но видение прогрызало его мозг как голодная крыса.
Придется кого-то еще подключить к этому делу, кого-нибудь из своих. Артура Кэднесса — вот кого! А больше и некого. Он и умен, и предан ему. К тому же как никто умеет держать язык за зубами. О слабости Харрисона по женской части знали все его помощники и советники. И он всегда несколько превратно представлял себе, как они к этому относятся, полагая, что они рассматривают это как некий знак отличия, если вообще придают этому хоть какое-то значение.
В общем-то, их мнение Харрисона не волновало. Он считал, что волен поступать как хочет. В этом было нечто такое, чего его святоша братец не поймет и за миллион лет. Энтони никогда его не поймет, в частности, никогда не поймет, почему Мэджин Тьернан так много для него значит. А жаль, в самом деле. Жаль, что Энтони отвергает иные прелестнейшие дары жизни ради каких-то высших представлений.
Однако за все приходится платить. Харрисон прекрасно понимал это. Вот и сейчас он расплачивается за радость жизни своим телом, а может даже поплатиться и карьерой. Но почему теперь? Какого, в самом деле, черта именно теперь, когда он уже вышел на финишную прямую?
Дверь открылась, впустив яркий свет из коридора, он повернул голову и увидел одну из сестер, спокойно приближающуюся к нему.
— Вы проснулись, сенатор?
— Да.
— Простите, что побеспокоила, но вас к телефону. Доктор сказал, что вы отдыхаете, но это звонят из Капитолия… Кто-то из вашего персонала. Мэджин Тьернан, кажется, если я правильно расслышала.
Харрисон почувствовал, как упало сердце. Он подумал и спросил:
— Надеюсь, вы ей сказали, что сначала узнаете, смогу ли я говорить?
— Да, сенатор.
— Прекрасно. Тогда передайте, что я позвоню ей потом.