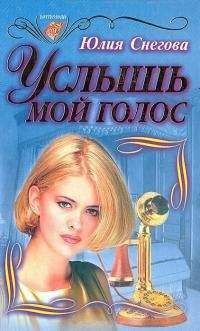Глажу вспотевшей ладонью подлокотник, и злорадная улыбка трогает губы. Сорока давно простил своих убийц и… «не стал бы мстить», но я ощущаю ликование от того, что справедливость восторжествовала. Этих скотов больше нет на свете. За жизнь моего друга и несбывшиеся мечты его близких они поплатились своими никчемными жизнями…
Меня осеняет запоздалое прозрение: возможно, девушка Сороки до сих пор страдает и уничтожает себя так же, как это делает Ник?
— А что с Ксю? — вырывается у меня.
Ник вздрагивает, словно от удара током, опускает глаза и чиркает зажигалкой. Пристально смотрит на огонь и долго подбирает слова.
— И ей, и мне угрожали во время суда, и Ксюша… переехала. Ее семья почти сразу сменила место жительства.
— Где она сейчас? — напираю я, Ник прикуривает новую сигарету и на пару мгновений скрывается за завесой серого дыма.
— Работает бариста в кафе в торговом центре на набережной.
— Как она?
Он пожимает плечами:
— Никак…
За стенкой разражается лаем собака, где-то воет сирена, вода, наполнив невидимую емкость, с журчанием стекает в раковину, и посторонние звуки вновь поглощает глубокая вязкая ночь.
Едкий запах табака щекочет горло, впитывается в поры, накрепко прилипает к одежде и волосам.
— А как справлялся ты? — тормошу я Ника, он размазывает окурок и распрямляет спину.
— А мне было похрен — я сам искал смерти. У меня… — Он давится признанием. — Было три попытки суицида, но каждый раз успевала вовремя мать. Потом я два года ставился хмурым — тот период вылетел из моей жизни. Я бросил универ, бродяжничал, воровал — в общем, это было дно. Я бы сдох в конечном итоге, но попал в реанимацию с передозом. Отец влез в долги, отправил меня в рехаб, и там… — Ник словно натыкается на незримое препятствие и резко меняет тему. — Сейчас я в норме. Восстановился и окончил экстерном универ, поступил в аспирантуру и защитился. Рисую, освоил искусство тату. Перерыв длится двенадцать лет, но я не зарекаюсь — бывших наркоманов не бывает.
Оглушенно разглядываю Ника и скатываюсь к кошмарному осознанию — усталость, уныние и безысходность придавили этого парня к земле, и он едва ли когда-нибудь снова взлетит. Страдание Сороки разливается по моим венам, пульсирует в моих шрамах, сливается воедино с моим и становится невыносимым…
Но что-то в рассказе Ника не дает мне впасть в отчаяние. Что-то светлое проскользнуло в его кривой ухмылке, когда он вспоминал о прошлых ошибках.
— Ник… но ведь было же что-то, что вернуло тебя назад? Что-то послужило стимулом, и ты не пропал!
Он лишь горько усмехается, забирает коньяк, взбалтывает остатки мутного пойла, приканчивает его и пустыми потухшими глазами смотрит на меня. Я меняю тактику.
— Ник, ты крутой художник. Спасибо тебе за шикарную птицу, за то, что ты подарил мне частицу себя! Я знаю, тебя приглашали в Европу. Так поезжай! Нужно ехать!
— Зачем? — перебивает он. — Смысл?
Донышко бутылки со стуком опускается на пол, Ник натягивает маску безразличия и поглядывает на часы, намекая, что аудиенция окончена.
Не ведусь на спектакль и спокойно выдерживаю ледяной прищур.
— Ник, посмотри, как ты живешь… — взываю я к нему и не позволяю отвернуться. — Я жила так же. Сидела в углу, покрывалась пылью. Гнила заживо. Меня могло спасти только чудо… Я не признавалась себе, но подспудно ждала его! Оно случилось — тот, кто отпустил мои грехи, нашелся… Ты ведь тоже ждешь чуда, Ник. Много лет ждешь.
Фразы царапают и жалят, перекрывают кислород и душат, но Ник, застыв, слушает. В ушах щелкает и пищит тишина, и я уже не могу контролировать их поток:
— Знаешь, что сказал мне Сорока? Он сказал, что глупо винить себя в том, в чем нет моей вины. Ник, ты не был причиной его гибели! Ему не нужны твои страдания. Вспомни, как его бесило, когда ты грузился из-за его разбитых щей! Потому что он жил своим умом. Он ничем не жертвовал, защищая вас — это был его выбор. Он считал, что ты должен прославиться в будущем и драки тебе ни к чему… И бился он не за тебя. Он зарубался ради себя. Ради идеи. Он не поддавался им, потому что считал, что тогда идеальный мир с дорогами, открытыми для всех, никогда не наступит… Он просто не мог иначе!
Ник прерывисто вздыхает, смахивает что-то со щеки, и на ней остается мокрая полоса. Закусывает губу, запрокидывает голову, сжимает кулаки — я режу по живому, и он терпит из последних сил. Но мне известно теперь, что эта боль очищает. Освобождает от непосильного груза и расчищает пепелище для новых всходов…
— Это ты держишь его здесь, — припечатываю я. — Твоя тоска. Твои неудачи. Твое самоуничтожение. Отпусти его, Ник. Перебей тату, уезжай, живи счастливо! Если можешь вытянуть себя за волосы — тяни. Помоги ему уйти и стать тем, кем он хочет быть. Помоги, как он тысячи раз помогал тебе!
Я лезу в боковой карман джинсов, ломая пальцы, достаю телефон, жму на кнопку включения, и он оживает. На экране, на выщербленных ветрами и временем кирпичах, проступают слова.
Протягиваю телефон Нику и, подавляя сердцебиение в глотке, шепчу:
— Вот. Это послание для тебя. Вспомни и осознай! Сорока… Он ведь достоин большего?
* * *
41
Кофеварка, уважаемая мной и сестрой за почтенный возраст, беспрерывно урчит уже много часов. В башке катается пудовая гиря, тело дрожит, как желе, тошнота распухает в желудке — похмелье убивает меня до самого вечера.
А литры крепкого до густоты кофе не избавляют от кислого чувства стыда.
Ранним утром Ник набросил поверх футболки толстовку, вручил мне трость и помог спуститься во двор.
Он молча курил в ожидании такси, а я топталась на месте, не зная, куда деть неловкие руки.
Мои нервы гудели от облегчения и бессонной ночи, эйфория растекалась теплом по конечностям, а давно забытое ощущение свернутых гор электричеством покалывало пальцы.
Я сделала все, что смогла — растормошила замерзшего друга Сороки и увидела его настоящим. Прочувствовала его ад и уловила сомнение в глазах — под бледным рассветным небом, нависшим над серыми стенами многоэтажек, передо мной стоял мальчишка с огромной душой, которому когда-то было все по плечу.
Мой старый друг, мой брат, запредельно крутой чувак Ник!
И мне хотелось плакать.
Ник метко забросил окурок в урну и замер, а я позорно покраснела — невидимые узы, что связывали нас в пьяном дурмане поздней беседы, с рассветом рассеялись, и обоих сковало напряжение.
Но он больше не скрывал от меня волнения — я все же помогла ему. И он помог мне — избавил от результатов неудачного эксперимента сестры, взамен подарив свой рисунок — свой крик, свою боль, свою мудрость.
По непостижимому стечению обстоятельств он тоже стал мне другом.
— Сегодня дата, — откашлялся Ник и пояснил, — ровно пятнадцать лет.
— Как его нет… — подхватила я одними губами, и потеря резанула лезвием по сердцу.
Белое такси с черными буквами на боку мелькнуло на повороте, и я не выдержала.
Откровения, бессонница, коньяк и недостаток воспитания сыграли свою роль — я бросилась к Нику на шею и обняла его. Вцепилась ногтями в спину, уткнулась носом в пахнущую сигаретами ткань футболки, и переломанные ноги подкосились от отчаяния — я не хотела с ним расставаться. Ник тоже осторожно сомкнул на моих плечах руки.
Мы обнимались под недовольными взглядами спешащих на дачный автобус пенсионерок — крепко, долго, двусмысленно. Его живое сердце колотилось у моего уха, и я вслушивалась в глухие удары. Каждый думал о своем.
Мы скучали по Сороке, поминали его, оплакивали, отпускали прошлое и спасали друг друга. Плевать, как это выглядело со стороны.
Снова отхлебываю кофе, морщусь и часто дышу, стирая с опухших век слезы.
Вероятно, мы больше не увидимся — не будет повода. Но отныне я буду скучать по нему.
Не тоской Сороки, а своей собственной — огромной и чистой тоской.
Изо всех сил надеюсь, что Ник сделал нужные выводы, и Сорока, где-то там, на своем зеленом холме, спокойно улыбается вечности…