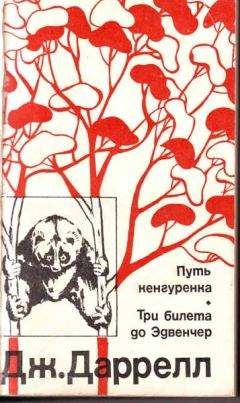Все это время, расставшись с тобой, я только и делал, что думал. Твоему Тоби постоянно нужно будет специальное — и самое дорогое — обучение, которое сможет обеспечить только Зэкари. К тому же ты ведь знаешь, как Тоби предан своему отцу. Как могу я просить тебя отлучить ребенка, который не сегодня-завтра ослепнет, от привычной жизни, от дома, от любимого отца? Мэкси — другое дело, она сможет адаптироваться к чему угодно, но Тоби? Что же, ты хочешь, чтобы ради нашей любви я причинил ему такие старадания?
Уверен, ты никогда не попрекнешь меня, что я мало зарабатываю. Уверен, тебя не слишком огорчит, что у нас не будет ни тех домов, ни тех слуг, ни всего остального, к чему ты привыкла, живя с Зэкари. Тебя, но не меня! Я буду отчаянно страдать, видя, как тебе приходится выкручиваться, как тяжело воспитывать троих детей, как много домашней работы свалилось на твои плечи, как часто тебе надо беспокоиться о том, чтобы свести концы с концами. Мы никогда не говорили о моих доходах, но знай: я же только в самом начале своей карьеры. Придет день, и уже скоро, уверен, когда у меня будет достаточно средств, чтобы содержать тебя, но сейчас это было бы совершенно невозможно. Трое детей — это значит, что мы не обойдемся без помощи от Зэкари. Помощи, от которой меня уже заранее тошнит. Да и тебя тоже. Такой зависимости мы не вынесем.
Моя дорогая, моя Лили, ты единственная, кого я когда-либо любил или смогу полюбить, но разве тебе не приходило в голову, что мне всего лишь двадцать четыре?
Боже, я бы отдал все, чтобы быть старше, иметь положение, оказаться в состоянии забрать тебя у него, дать тебе все — и черт с ними, со всеми разговорами. Но мы должны ждать! Если у тебя достанет для этого мужества, то впереди нас ждет совместная жизнь. Сейчас ты должна определиться с ребенком. И что бы ты ни решила, будет единственно правильным.
Я уезжаю обратно в Сан-Франциско. К тому времени, когда ты прочтешь эти строки, я уже буду в самолете. Я слишком большой трус, чтобы сказать тебе все это в лицо, мне слишком стыдно, что я не мог устроить все как надо, не мог найти способа, как нам быть вместе уже сейчас. Пожалуйста, дорогая, прости. Знай, сам я себе не прощаю за нас двоих. Я буду любить тебя вечно, и в один прекрасный день мы будем вместе. Все, что тебе надо, — это терпение, сила, храбрость и готовность простить меня. И жди, жди!
Каттер».
Лили прочла письмо всего один раз. Сложив его, она опустила листки в сумочку и вышла из пустой квартиры с гордо поднятой головой. Как сильно должен Каттер любить меня, чтобы в такой миг думать только о том, как круто сможет ребенок переменить мою жизнь! О, будь Каттер сейчас здесь, она могла бы сказать, что ему нечего стыдиться. Простить его? Да разве она хоть в чем-нибудь его обвиняла! Каждое слово в письме говорило ей, как сильно он ее любит. Неужели Каттер не видит, что ребенок, их ребенок, еще сильнее свяжет его и ее? А ждать, что ж, это она умеет.
Днем по средам в «Эмбервилл пабликейшнс» собирались на «планерку» все те, на кого Зэкари опирался в выпуске журналов. Собственно, эта группа не имела никакого формального статуса, как и в большинстве находящихся в частном владении компаний, где нет акционеров, нет и правлений директоров, но Зэкари приглашал на встречи по средам далеко не каждого. Отбор был самым тщательным, и тот, кто однажды получал приглашение, впоследствии ходил на все заседания. В журнальном бизнесе, где главным редакторов то и дело переманивают, а номер планируется чуть не заполгода вперед, сохранение служебной тайны приобретает особое значение. Вот почему Зэкари так тщательно отбирал людей, прежде чем допустить их на планерки.
Под началом главного редактора «Стиля» Зельды Пауэрс работало человек восемьдесят, и лишь немногие из них имели четкие должностные обязанности, отвечая за такие разделы, как «мода», «косметика», «бижутерия» или «обувь» — ее величество обувь, производители которой так величественно ведут себя, когда надо раскошелиться на рекламу. Еще в журнале был отдел, где готовились обзоры последних новостей из мира кино, живописи, телевидения, музыки и литературы под рубрикой «Вы слышали?». Получить в этом отделе работу, за которую платили меньше, чем любой знающей себе цену продавщице у «Мэйсиса», считалось особой честью — все равно что иметь право, какое завоевал лишь один из маршалов Наполеона, Жан Ланн, герцог Монтебелло, обращаться к своему императору на «ты».
Ввиду низких окладов девушкам из бедных семей работать в отделе «Вы слышали?» было просто невозможно, а что касается богатых, то от них требовались поистине незаурядные способности, прежде чем им выпадала эта счастливая возможность. Соискательница должна была не только иметь доход на стороне, но и обойти соперниц на одну из трех должностей заместителя редактора, начиная свое соревнование заочно еще в женских колледжах, принадлежащих к «Айви Лиг». Наймом «молодняка» занимался редактор отдела очерков Джон Хэмингуэй, прямо-таки наслаждавшийся предоставленной ему властью решать, кто из знаменитостей заслуживает отдельного материала в главном из разделов журнала, кто из них созрел для разворота с цветными фото и текстом на три тысячи слов, а кто тянул в лучшем случае лишь на тысячу и черно-белые фото или какая тема неожиданно выдвинулась на первый план и кому должен заказать «Стиль» соответствующую статью.
На должности трех своих заместителей Хэмингуэй брал только незамужних молодых женщин, которые умели хорошо одеваться, были ниже его самого ростом, при этом не перешли за тридцать (после тридцати у всех еще незамужних появлялись разные невротические состояния, мешавшие им работать так, как он от них требовал) и не возражали к тому же против работы в ночное время (по своему опыту он знал, что те, у кого слишком много ухажеров, обычно больше думали о замужестве). И еще, как бы упорно они ни трудились, ему нужны были лишь те, кого не мучило честолюбие: ведь в противном случае пришлось бы опасаться того, что они захотят занять его место, — словом, женщинам он не доверял.
Многие десятки девушек, казалось, обладали всеми качествами для того, чтобы занять один из трех зтих постов в «Стиле». Однако лишь две из тех, кто этого добился, соответствовали требованиям Хэмингуэя. Третья же, снедаемая тайным честолюбием (и следовательно, самая умная из них), умудрялась одновременно и работать ночами, и гулять с полудюжиной молодых людей, которых она держала на коротком поводке. К счастью, Нина Стерн могла спать всего по нескольку часов в сутки, а работать на удивление быстро.
В свои двадцать пять Нина Стерн, безусловно, была самой «старой» из всех красивых, богатых и незамужних еврейских девиц Нью-Йорка 1958 года. Знакомые уже перестали спрашивать у матери Нины, что такое происходит с ее дочкой. Среди них мало-помалу распространилось убеждение, что с Ниной явно не все в порядке, хотя внешне это и не проявляется. Но и намека на намек никто из них не считал возможным себе позволить: это было бы слишком жестоко и, главное, безрезультатно. Подумать только, за бедняжкой в прошлом не числилось даже ни одной разорванной помолвки. Стоит ли после этого вмешиваться? Ведь вмешиваться имеет смысл только, если есть надежда хоть что-то поправить.