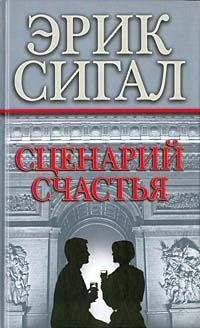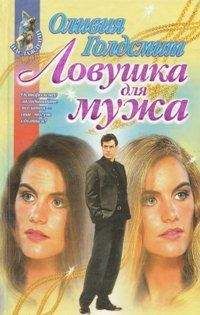Поразительно, но за все это время мы понесли только одну потерю в личном составе. Это был могучий австралийский Тарзан — Даг Мейтланд. Как только он отослал свое резюме куда хотел, как таинственным образом под воздействием местного климата стала давать о себе знать его старая травма регбиста. Вскоре боль, как выяснилось, стала невыносима. Как и он сам. Невзирая на грозящее увеличение нагрузки, я отпустил его восвояси уже через две недели после его заявления.
Со свойственной ему деликатностью Даг напомнил мне, какой большой вклад он внес в нашу работу.
— Послушай, старик, я свое в этой дыре отбыл и теперь рассчитываю на отличную характеристику.
Я решил, что «рассчитывать» он может до самой своей смерти.
Между тем его поспешный отъезд означал, что мне предстоит неотложная пасторская миссия по спасению души Дениз. Я пытался утешить ее тем, что она достойна лучшей участи, чем этот гнусный мужлан.
— Это еще не конец, — отважно заявила она. — Я поеду к нему в Мельбурн.
— Конечно, конечно, — сказал я, стараясь, чтобы это звучало убедительно.
Жиль был готов умереть счастливым. Двоим за завтраком он уже поведал свою потрясающую новость, а теперь увидел меня и отчаянно замахал рукой. Я сразу догадался, что триумф на его лице может означать только одно.
— Я его видел, северного лысого ибиса! Сегодня утром! Ты себе представить не можешь, как я счастлив, Мэтью!
— Нет, не могу, — честно признался я. — Но я за тебя ужасно рад, ты это заслужил. Поздравляю!
У Эритреи есть одна особенность: здесь ничто никогда не кончается. Засуха началась в 1968 году, то есть десять с лишним лет назад, и все равно было ощущение, что она продлится до скончания веков. Так же и с гражданской войной, которая бушевала с прежней силой. Эритрейский народно-освободительный фронт оправился от советского вмешательства 1978 года, но ни одна сторона не проявляла желания закончить военные действия либо урегулировать конфликт тем или иным способом в обозримом будущем. И непреложным фактом жизни оставался голод.
Эти нескончаемые бедствия неизбежно сказывались на моем персонале, для которого каждое утро начиналось с такой же длинной очереди больных, как накануне. И на хирургах-травматологах, которые продолжали денно и нощно извлекать пули из раненых бойцов.
Приближалось очередное Рождество, и я видел, что все только и мечтают, что о доме.
Даже я начал уставать от необходимости поддерживать в ребятах моральный дух — не забывая одновременно и о собственном.
Контракт у всех подходил к концу, и ни один из нас не думал его продлевать, если не считать Жиля, который твердо решил остаться работать в Кении.
Наша поездка в Швейцарию научила моего брата одерживать верх в споре со мной и при этом обставлять дело так, будто он вовсе и не спорит. Он понимал, что в данный момент альтруизм отвечает моим душевным потребностям, и ни разу не прибегнул к такому аргументу, как родня, чтобы заманить меня домой (для этой цели не прозвучало даже имя моей маленькой племянницы Джессики).
Он пошел по другому пути — тонко указал на связь между новыми направлениями генетики и осуществляемым мною медицинским проектом.
«Ты только представь, — писал он. — В один прекрасный день нам не придется ломать голову над лечением того же диабета, поскольку этого заболевания больше не будет. Новая технология позволит не выпускать больше инсулин для тех, у кого в организме его не хватает, а внедрить в организм гены, которые будут сами стимулировать его выработку. Неужели тебе не хочется принять в этом участие?»
Я опять попался на удочку.
И думаю, Чаз это понял, поскольку я немедленно попросил его прислать мне более подробную информацию.
На протяжении последних шести месяцев моего африканского контракта я рассылал заявки в разные университеты для поступления в аспирантуру по молекулярной биологии. Должно быть, своеобразие моего опыта практической работы произвело большое впечатление, ибо все факультеты, куда я обращался, ответили согласием.
Я решил идти в Гарвард с единственной целью — избавить себя от необходимости всю оставшуюся жизнь объяснять людям, почему я этого не сделал. Там я имел честь учиться вместе с Максом Рудольфом и его преемником Адамом Куперсмитом[3].
Накануне моего отлета мы, по обыкновению, напились и изощрялись в шутливых тостах и печальных напутственных речах. Я уже заранее испытывал ностальгию, но старался не показывать вида.
Рейс приходился на раннее утро, и у меня не было возможности попрощаться с теми, ради кого я находился в Ади-Шуме, — моими больными. Поэтому еще с вечера, уложив чемоданы и ящики с книгами, я совершил обход лагерных костров, вокруг которых сидели те, кто рассчитывал получить помощь наутро.
Сейчас я говорил на тигринья почти как на родном языке и с легкостью перешучивался с ними по-тиграйски. Я узнал одну женщину, которую когда-то лечил. Ее первый ребенок умер от дизентерии, сейчас она была беременна во второй раз.
Я пожелал ей всех благ и удачи с будущим малышом. Она поблагодарила. Поцеловав ее на прощание, я зашагал к своему домику.
Жиль взволнованно дожидался меня.
— Послушай, Мэтью, ты кое-что чуть не забыл. — Он протянул мне клавиатуру.
— Все в порядке, она мне больше не понадобится.
— А нам что с ней делать? Нельзя же взять и выбросить!
Я согласился и предложил подарить клавиатуру будущей маме, сидящей у костра. По лицу Жиля было видно, что эта мысль привела его в замешательство. Он не мог понять, что с ней станет делать африканка. Но потом он вдруг развеселился и сказал:
— А что? Может, из него вырастет музыкант.
— Чем черт не шутит…
Я улыбнулся и вошел в дом.
…До сих пор я скучаю по этим людям, по своим больным, по самой этой истерзанной земле. Прощаясь со своими эритрейскими друзьями, я испытывал не только грусть, но и стыд оттого, что оставляю их здесь, а сам возвращаюсь туда, где можно будет задрать ноги на стол, открыть банку пива и смотреть спортивный репортаж по телевизору.
За два с небольшим месяца до моего отъезда мы обустроили новый госпиталь на двадцать четыре койки с превосходно оснащенной операционной. Я понимаю, не такое уж это большое дело. Но черт побери, это же только начало!
Если я что-то и вынес из всей своей работы в Эритрее, то это было убеждение, что все в жизни зависит только от тебя самого.
ЧАСТЬ III
Нью-Йорк. 1981 год
Существует легенда об аспиранте Гарварда, который двадцать лет назад вошел в лабораторию генной инженерии и так до сих пор и не вышел. Одни говорят, он все еще там, глаза у него намертво пристали к электронному микроскопу, отчаянно выискивая какой-то неуловимый ген. В этом предании есть доля истины: стоит исследователю пуститься в подобные изыскания, и часть его навсегда остается привязана к этому фантасмагорическому миру, где нет ни дня, ни ночи, ни смены времен года, ни течения времени как такового.