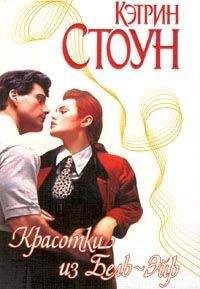Ознакомительная версия.
— Ну, бабушка, ты чего… Хоть бы предупредила, что ли! Так и заикой меня сделаешь… — снова икнув и улыбнувшись сквозь слезы, проговорила Таня.
— Да не сделаю, не сделаю… От святой воды еще никто заикой не сделался. А лихоманка, глядишь, прошла. Тут, Танька, главное вовремя ее захватить, лихоманку-то эту человеческую, не дать ей завладеть тобой полностью. Я ж вижу, ты скукожилась уже и слова тебе всякие говорить бесполезно — все равно впрок не пойдут. Вот и полечила маненько… Полегчало тебе?
— Ну да, полегчало вроде… А только все равно на душе камень тяжелый лежит, бабушка. Ну вот скажи: ну за что она со мной так, Лена эта? Так меня холодом да презрением облила, будто я совсем уж убогая какая. Вроде как стыдно ей для Оти такую няньку держать — рожей, говорит, не вышла… При чем тут рожа-то моя, баб? Я ж сердцем к нему привязалась, я бы всю себя отдала… А она — рожа не та… Господи, обидно-то как! И обидно, и Отю жалко…
— Да ладно, Танюха. Сколько еще у тебя обид этих в жизни будет — на всех не наздравствуешься…
— Да ты не понимаешь, бабушка! Она внутри у меня засела, обида эта! Так черно там стало — дышать больно. Не знаю почему… Вот тетя Клава покойная, помню, уж какими словами только меня не обзывала, самыми распогаными, а обиды никакой и не было. А тут вдруг…
— Ну да. Обзывать-то тебя Клава обзывала, зато и сердечностью твоей хорошо пользовалась, оттого и обиды у тебя на нее не осталось. А тут на сердечность твою плюнули, выбросили просто, как хлам ненужный, оттого и обидно тебе. А ты брось, Танюха! Забудь! Забудь, пока все свежее! Выползи из этой шкуры, хоть с кровью, но выползи. Иначе тоской измаешься. Не дай бог она врастет в тебя корнями, тоска-то.
— Да как же — забудь… Я вон глаза закрою и Отю вижу… Жалко так его…
— А ты не жалей! Ты что его, на голодный остров свезла и волкам на съедение бросила? Ты ж его к сродственникам свезла, не к кому-нибудь! Они люди не бедные, без куска хлеба его не оставят! Ничего, и без тебя вырастят. Другая нянька, дай бог, тоже добрая ему попадется. А нет — так крепче будет. А тебе нельзя в тоску впадать, Танюха, ой нельзя. Лучше на хорошее надейся, а тоской своей ты дитю и вовсе уж не поможешь…
Таня вздохнула тягуче, утерла ладошками влажное от непросохших еще слез лицо, улыбнулась грустно. Потом подняла на бабку глаза, проговорила тихо:
— Ладно, бабушка, я постараюсь. Правда постараюсь. Ты мне пирог с капустой сейчас испеки, ладно? Так по пирогу соскучилась…
— Ой, да это ж я мигом! Сейчас прямо и приставлю, у меня и тесто взошло, наверное! Ты пока умойся с дороги, переоденься. Ой, а шуба-то на тебе, гляжу, другая совсем…
— Ну да, другая. Это мне Ада подарила. Я не хотела, да она настояла. И еще подарков каких-то накупила — там, в прихожей, чемоданы стоят…
Тяжело поднявшись с дивана, на который, только успев войти в комнату и не раздевшись, сразу и рухнула, она прошла в прихожую, скинула с себя, как ненужную шкурку, новую шикарную шубу, небрежным жестом повесила ее на крючок вешалки. Не в радость ей была эта новая шуба. Все было не в радость. Потянув собачку замка на новом чемодане, она откинула крышку, долго вглядывалась в ворох ярких, пахнущих незнакомо и пугающе пакетов, потом сунула руку в один из них… Что-то скользнуло меж пальцев легчайшим холодным шелком, упало к ее ногам небрежно-изысканно, словно и в руки даваться не хотело. Что ж, и не надо. Засунув, даже не развернув толком, это небрежно-изысканное обратно в пакет, Таня решительно захлопнула крышку, задернула замок и пихнула чемодан в глубокий стенной шкаф в прихожей — с глаз подальше. Пусть там стоит. Не надо ей ничего. Душа не лежит, и все тут.
Вскоре по маленькой квартирке разнесся уже и запах пекущегося в духовке пирога — родной, с детства знакомый, душевно-сытный. Жизнь Тани Селиверстовой, похоже, потихоньку налаживалась… Потянув носом воздух, она пошла навстречу этому запаху в сторону кухни, села перед большой чашкой свежезаваренного чая, заботливо подвинутой ей бабкой Пелагеей. Ткнувшись носом в ее чистенькую фланелевую рубашечку, проговорила тихо:
— Ничего, переживем, бабушка… Завтра на работу обратно проситься пойду…
— О, Селиверстова, здорово! Что, не улетела еще в свой Париж? — удивленно поднял на нее глаза заведующий отделением хирург Петров, оторвавшись от разложенных на столе чужих историй болезни.
— Так я уж обратно прилетела, Дмитрий Алексеевич… — садясь перед ним на стул, виновато улыбнулась Таня.
— Как это — обратно? Ну ты даешь, Селиверстова! Ой, да что это с тобой? На тебе ж лица нет… Случилось что, Тань?
— Ой, не спрашивайте меня ни о чем… — махнула рукой Таня, проглатывая вмиг образовавшийся в горле слезный комок. — Лучше скажите: обратно возьмете? Вот, я заявление написала…
— Да, конечно… Конечно, возьму… Слушай, а может, помочь чем надо? Ты скажи, Танюха. Не реви только. Что с тобой приключилось? Терпеть не могу, когда у баб глаза такие несчастные! Может, расскажешь все-таки?
— Может, и расскажу. Потом…
— Ладно. Потом так потом. Выходи завтра в ночную смену. А пока иди, оформляйся. Давай, я заявление твое подпишу…
— Ага, спасибо…
Схватив свое заявление с поставленной на нем закорючкой подписи, Таня торопливо выскочила из его кабинета, пошла по знакомому коридору в сторону отдела кадров. Хороший все-таки мужик этот Петров. Хоть и говаривали про него, что он бабник первостатейный. А еще говаривали, что он будто из другого города к ним переехал, что дети у него тут живут… И еще — что детей этих у него много, куча-мала настоящая. И все от разных женщин. Может, и правдой это было, черт его знает… А только все равно он хороший! Чуялось от него за версту тепло, как от горячей спасительной печки в лютый мороз. И впрямь захотелось ему поплакаться, очень уж сильно захотелось! Будто подсказало ей что внутри — ему только и можно, только он ее и поймет, и пожалеет. А как будет жалеть — это уж дело десятое. Замерзающий об огне не думает. Он просто к печному теплу идет, и все. Вот и Таня пошла к этому теплу следующей же ночью, ни о чем не думая. Туда, к теплу, в маленький кабинет доктора Петрова. Так и запомнилась потом ей эта ночь, начавшаяся с обычной картинки — стол, початая бутылка водки, бабкины пироги на закуску, добрые внимательные глаза напротив, в которые можно провалиться всей своей бабской невостребованной да обиженно-сердечной сутью…
Петров слушал ее очень внимательно. Плескал водки в стаканы чуть-чуть, чокался с ней, выпивал и снова слушал. Так, будто ее проблема есть самая для него на свете важная. И не перебил ни разу, только курил много, держа сигарету меж сухих, желтых от хлороформа пальцев. Потом поднял на нее карие влажные, очень добрые и всепонимающие глаза, проговорил тихо:
Ознакомительная версия.