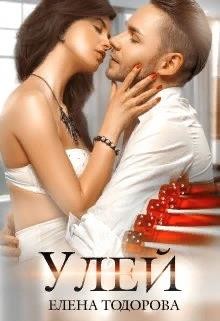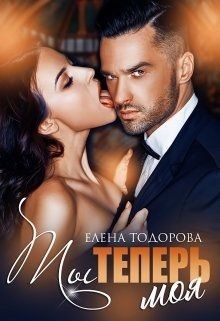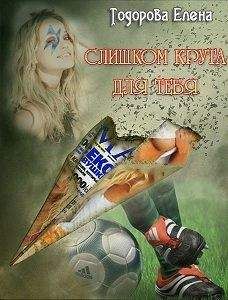— Как мне от него избавиться?
— Научись видеть не только минусы, но и плюсы. Ни один человеческий поступок не может быть исключительно отрицательным, как и ни один не может быть исключительно положительным. Любому деянию присущи два полюса мотивов. Какой-то из них должен быть весомее, ведь именно благодаря этому вырабатывается энергия. От большего к меньшему, и наоборот. Важно видеть и то, и другое.
Адам сжимает губы и качает головой.
— Это сложно.
Терентий Дмитриевич улыбается.
— Не спорю. Но ты способен это увидеть и понять.
Их разговор прерывает стонущий женский вскрик. Адам оглядывается назад и всматривается в колышущуюся морскую гладь. Только не видит нигде ни души.
Снова смотрит перед собой, но отца уже не находит.
Сказочную тишину раскраивает повторяющийся крик. В этот раз более сильный, звенящий, отчаянный и… знакомый.
Красочная картинка рассыпается на мелкие песчинки и постепенно исчезает. Титов просыпается, первым делом, чувствуя боль в затекших мышцах. А вторым ощущением выступает липкая испарина по телу.
И пронзительный звон в ушах.
Исаева лихорадочно вертится, вцепляясь в его футболку. Сонно бормочет какую-то бессвязную ересь, испуганно взвизгивает и периодически громко кричит.
— Нет… Только не это… Пожалуйста…
Адам слегка встряхивает ее, но это никак не срабатывает.
— Проснись.
Тщетно.
— Пожалуйста… Я же тебя умоляю…
— Ева, — делает Адам еще одну попытку, касаясь рукой ее взмокшего лба и влажных волос. — Черт возьми… Ева???
— Пожалуйста… Я больше не буду плакать… Я обещаю… Обещаю… Об…
— Исаева? Просыпайся, черт возьми.
Он аккуратно обхватывает ее затылок и приподнимает голову вверх. Она же пытается вырваться.
— Я не буду плакать… Выпусти меня отсюда, пожалуйста… Пожалуйста, папа…
— Черт… Эва…
Ее ресницы вздрагивают, но глаза так и остаются сомкнутыми.
— Эва, — повторяет Титов и наблюдает ту же реакцию с ее стороны.
— Эва, — как заклинание. — Эва. Эва. Эва.
И это срабатывает. Исаева резко распахивает глаза.
Уставившись на него ошалевшим взглядом, очень медленно возвращается в реальность.
Судорожно соскальзывая с его колен, она отползает в другой угол тюремной клетки и, поджимая ноги к груди, запахивает поверх них пальто.
— Что с тобой, черт возьми, происходит, Исаева?
— Плохой сон, — глухо выдыхает она.
— Я осведомлен, что у тебя проблемы со сном. Но что именно тебя тревожит?
Ева зло щурится.
— Ты предпоследний человек, которому я об этом расскажу.
— А кто последний?
— Мой отец.
Титов тяжело вздыхает.
— Значит, это связанно с ним? — спрашивает, хотя тут не может быть никаких уточнений. — Он избивает тебя? Тот синяк в Хэллоуин, его рук дело?
Ева смеется, натягивая свой лучший защитный костюм. Прячется в нем полностью, только глаза все еще сверкают болью.
— Тебе-то какая разница, Адам? Перестань изображать беспокойство. Перестань лезть ко мне в душу. Перестань строить из себя главного героя моей гребаной сказки. Я ненавижу это! К тому же, меня не нужно спасать из башни дракона, как ты накануне выразился. Я не принцесса. Я и есть дракон. Сама себя загнала в психологическую ловушку, а выбраться теперь не могу. И тебе меня не выманить, — убежденно выпаливает она. — Тебе меня не выманить!
Как бы то ни было, ее слова шокируют. Проходятся по теплой коже лихорадочным ознобом.
— Но при этом ты собираешься замуж, Исаева? Как же ты планируешь спускаться из своей башни?
Девушка глубоко вздыхает и спокойно заявляет:
— Прыгать, Титов. Только прыгать. И только насмерть.
Адам молчит, вглядываясь в ее темные затягивающие глаза. Он решает, насколько серьезно воспринимать ее слова, но так и не находит подходящего для себя формата. Поэтому снова уточняет.
— Ты же несерьезно сейчас?
— Конечно, нет, — едко выплевывает Ева. — Я надену пышное белое платье, слету забуду обо всех тараканах и счастливо сбегу по пожарной лестнице прямо в объятия своего прекрасного принца. А потом я, мать вашу, пятьдесят лет буду играть одну-единственную роль! Да так усердно, что этот сукин сын сам поверит, словно я его люблю. Так тебе больше нравится, Адам?
Титов медленно выдыхает. Ощущает, как в груди что-то заклинивает и сжимается до микроскопических размеров.
Его руки непроизвольно сжимаются в кулаки, до боли натягивая поврежденную кожу.
— Мне-то какая разница? — грубо повторяет он ее слова. — Делай, как хочешь.
— Тогда я лучше выберу первый вариант. При втором мне придется рожать от Круглова детей и учиться не ненавидеть их за кровное родство с ним.
Титов закусывает изнутри щеку.
— Ты хорошо притворяешься, — и это самый тупой ответ, который он может придумать.
— Так и есть. Но притворяться и лицемерить перед собственными детьми — вершина зла. Я не хочу этого делать.
Больше они не разговаривают. И не спят. Отрешенно наблюдают за тем, как видимый кусок неба за окном сначала сереет, потом белеет и, в конце концов, становится совсем прозрачным и пустым.
Измученные обществом друг друга, подскакивают, едва у двери камеры появляется Погодин. И, хвала Богу, он начинает говорить до того, как сердце Евы перестает биться.
— Жива ваша Захарченко. Ночью пришла в себя и только что дала показания, что сама с балкона сиганула. А это уже не наша епархия. Теперь психологи с ней работают.
— Что, простите? — шелестит Ева.
Полицейский тем временем проворачивает ключ в замке и открывает дверь.
— На выход!
— Как она? — спрашивает Ева, стоя неподвижно, словно пригвожденная.
Впрочем, и Титов не спешит покидать место ночлега.
— Нормально, — в голосе Погодина скользит нетерпение. Он, похоже, мечтает от них избавиться. — Пара переломов да ушибы… Все благодаря накинутой куртке. Она большую часть полета играла роль парашюта. Пока не слетела.
— С ума сойти, — шокированная, выдыхает Ева.
Николай Романович небрежно кивает и далее говорит с открытой неприязнью.
— А вам, граждане, сулит административный штраф за дачу заведомо ложных показаний следствию. Ну? Что еще вам от меня нужно? — сердится он. — Я сказал, на выход, граждане!
26
День сорок первый
Адам снимает со сковороды омлет, когда в кухню заходит отец. Невзирая на то, что с момента его возвращения домой прошло двое суток, они еще толком не разговаривали. Лишь перекинулись парой незначительных фраз.
Адам пытается вести себя, как обычно. И возможно, со стороны он выглядит естественно, стоя в одних лишь спортивках посреди отцовской кухни со сковородой в руках. Но сам Титов чувствует себя гнусным самозванцем. Ведь на деле, ничего из прежней жизни ему не принадлежит.
Неуверенность и неудовлетворенность порождают гнев, который ранит и задевает случайных свидетелей. Он это прекрасно понимает и никак не может остановиться.
«Да и черт с ними! Со всеми…»
Терентий Дмитриевич смотрит на сына с осторожным любопытством и рассеянно улыбается, когда Адам выдавливает на тарелку горку острого кетчупа и рядом чуть поменьше порцию майонеза.
— В этом доме кто-нибудь что-нибудь слышал о здоровом питании? — шутит входящая следом Диана. — Я почти уверена, что и ты, Терентий, сейчас не овсянку станешь есть. А пожаришь, к примеру, вчерашние пельмени.
Губы Адама трогает едва заметная улыбка. Он вынужден признать, что у нее всегда легко получается шутить.
— Завидуй молча, Диана, — грубовато откликается, прежде чем сесть за стол и уткнуться в телефон.
— Пельменей нет, — посмеиваясь, Терентий Дмитриевич включает кофе-машину. — Но я думал о бутерброде с майонезом, ветчиной и помидорами. Ты как?
Диана расширяет глаза в немом ужасе.
— Я — пас! Это не стоит ни минуты моей семикилометровой пробежки, — садится напротив Адама и пристально изучает затесавшиеся между тату синяки и ссадины. — Но от кофе не откажусь.